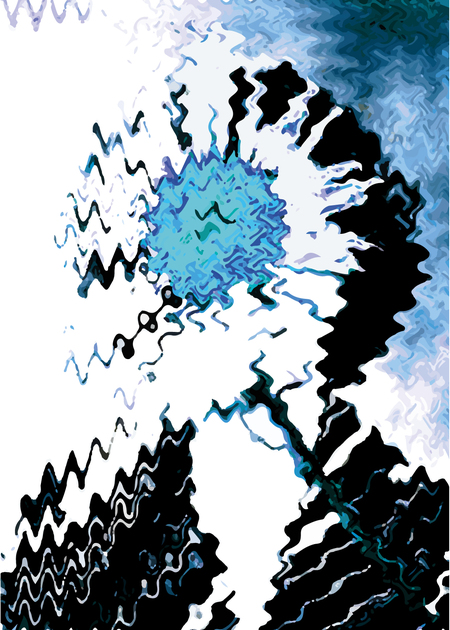
Осмыслять событие из времени, где оно совершается, мучительно сложно. Тяжело отринуть собственные эмоции и посмотреть на событие сверху, ведь даже невозможно понять закончилось ли оно, или же скоро стучится новый виток. Ангажированный опыт часто вменяют отрицательной стороной, например, в журналистской работе. Основное правило этого дела — это беспристрастность. Понимаемо тяжело стать наблюдателем в череде событий, задевающих тебя как индивида. Искусству однако ангажированность в этой ситуации будто бы на пользу.
Джон Робертс в статье «Искусство и практика: метастабильность, считываемость, расположенность» (2011) пишет о том, что одна из стоящих проблем перед искусством сейчас — это поиск считываемости (legibility):
«Считываемость… связана с реалистической привязанностью художника к совокупности проблем, выходящих за пределы искусства и поэтому вызывает у зрителя ощущение, что, хотя искусство называет себя искусством, его идентичность в этом качестве имеет определённое отношение к практике» (Робертс [по Юханнисон, 2022]).
Искусство не может быть беспристрастным, оперировать только фактами (хотя и такие художники есть, например, Forensic Architecture). Работы этой главы своего рода свидетельский акт современности.
Как нельзя ждать беспристрастности в искусстве, так и сложно говорить о реализме. Ирина Дементьева в статье «Иллюзорность реалистического пейзажа: как современные художники осмысляют застывший русский топос» (2022) рассматривает реалистический пейзаж как эзопов язык для политических высказываний. Искусство она воспринимает как медиа (СМИ), приписывая медийный поворот и художественной среде:
«В основе поворота находится онтологическое основание, которое даёт право провозгласить тезис — „всё есть медиа“».
Изображение такой же текст. Однако, если медиа можно воспринимать (хотя ошибочно) проводником реальности, то, смотря на произведение искусства, зритель считывает чувственное самого художника и медиум, который он выбрал для передачи сообщения, но совсем не реальность.
Искусство совершило поворот от эстетического к социальному на моменте концептуализма. Например, Розалинда Краусс видит сосуществование в взаимодействии эстетического и социального:
«Одна из распространённых характеристик искусства в режиме постмодернистского чувствования сводится к тому, что оно повторяет описанное слияние эстетического с социальным полем в целом» («Круглый стол. Текущее состояние художественной критики», 2019).
А Екатерина Деготь утверждает, что философия и искусство сходны именно в сфере концептуального:
«Дело в том, что искусство в ХХ веке стало претендовать на роль философии. То есть искусство открестилось от традиционного понимания себя, как некой эстетической деятельности, создающей прекрасное. Вот с этим покончено. А поняло себя оно как некую деятельность, аналогичную процессу познания» (Фанайлова, 2006).
Говоря об объективной реальности, Дементьева подчёркивает, что в СМИ передача информации является опосредованной (журналист — читатель — реальность), а информация второго порядка подвергается обработке и интерпретации. Отношения между художником и зрителем строятся по тому же принципу: художник — зритель — реальность. «Наше сознание вовсе не является отголоском нашего существования в реальном времени, но эхом в отложенном времени, экраном рассеивания субъекта и его личности»: писал Бодрийяр (2019). В постмодерне, по его взгляду, реальность заменяется на гиперреальность, добавляется иллюзия.
«Такое медиа, как искусство, не способно отразить реальность, так как, во-первых, нет самой реальности, она заменяется иллюзией или симулякром, а если всё же допустить её существование, то сознание и органы чувств опосредуют процесс восприятия. Искусство в дискурсе познавательного не отражает, а воздействует, то есть оно не объективно, а идеологично» (Дементьева, 2022).
[Рис. 42-43] Павел Отдельнов. Серия «Внутреннее Дегунино» (2013)
Показательным примером гиперреальности может служить творчество Павла Отдельнова. Серия «Русское нигде» (2020–2021) продолжает исследование пейзажа окраин больших городов, начатое в проектах «Внутреннее Дегунино» (2013) и «ТЦ» (2015). Выбирая самое «банальное и типичное» из карт Яндекса и Google, художник убирает человеческую романтизацию снимка, обращаясь к машинному взгляду.
[Рис. 44-49] Павел Отдельнов. Серия «Внутреннее Дегунино» (2013)
Вместе с этим, художник изучил паблики в социальных сетях, где люди делятся такими же непримечательными пейзажами. Комментарии, иногда ироничные, перерастающие в мемы, Отдельнов расценивает как «попытку романтизировать место своего пребывания, эстетически осмыслить и принять его и попытку выстроить ироническую дистанцию, найти свою точку зрения». Избранные реплики дополнили холсты и экспозицию.
[Рис. 50-52] Павел Отдельнов. Серия «Внутреннее Дегунино» (2013)
[Рис. 54] Павел Отдельнов. Вид экспозиции «#followme» (2018)
Обращаясь к эстетике интернета, Павел Отдельнов создал серию »#followme» (2018). На «мыльном» фоне, похожем на романтический пейзаж Тёрнера («Дождь, пар и скорость», 1844), художник разместил самые популярные теги того периода. Компиляция этих элементов раскрывает дистанцию между «позитивными» тегами и меланхоличной, трагической, часто наполненной одиночеством реальностью.
[Рис. 55] Уильям Тёрнер «Дождь, пар и скорость» (1844)
[Рис. 56-63] Павел Отдельнов. Серия «#followme» (2018)
Другой художник, который задумался в карантин 2020-го года об одиночестве в городе, был Роман Мокров. Работы на бархате стали его исследованием этого чувства. Торговая сеть «Пятёрочка», которая была «единственным приключением, долгожданным свиданием с „наружей“», видимыми из окна квартиры в спальном районе «огнями Лас-Вегаса», единственным ярким пятном жизни, зафиксирована художником в видео, фото, портретах работников и покупателей. Печать на бархате (2020) запечатляет опустевшие, заснеженные улицы, вроде бы обычный вид типового района, но с настройками яркости, выкрученными на максимум. Это убедительная иллюзия, романтизирующая одиночество.
[Рис. 64] Роман Мокров. Фотография «Пятёрочка» (2020)
[Рис. 65] Роман Мокров. Фотография «Последний человек» (2019)
В предкарантинных работах «Последний человек» (2019) и «Грунтовые воды» (2019) Мокров исследует одиночество на фоне природных ландшафтов. Маленький, практически обнажённый человек на пока не оттаявшей реке (частый образ в работах Мокрова) на фоне холма создаёт ощущение покинутости. «Умиротворяющий пейзаж — на деле оказывается последним вздохом человечества и символом крушения надежд на радужное будущее». Правда, почему человек оказался здесь один? Почему он весной стоит на льду? Где другие, почему не рядом с ним? Что он собирается делать?
[Рис. 66] Роман Мокров. Фотография «Грунтовые воды» (2019)
А машина почему оказалась в болоте? Странный, сложный путь для преодоления на обычной легковой машине.
Эти бархатные полотна Романа Мокрова сами по себе небанальное решение для экспонирования фотографий. Лёгкий и мягкий материал хочется набросить на плечи, одомашнить кружкой чёрного чая с сахаром и лимоном. Соединение теплоты (в материале) и экзистенциальной тяжести (в концепции) ставит в тупик, банальное перестаёт им быть.
[Рис. 67-69] Екатерина Балабан. Инсталляция «Полигон» (2021)
Работа, которая не вызывает никакого ощущения тепла, хотя тоже выполнена на тканевом материале, — это «Полигон» (2021) Екатерины Балабан. На трёх рулонах представлен «огромный мусорный зиккурат». Маленькие, на фоне горы, люди будто бы строят вавилонскую башню, но, в отличие от оригинальной, у неё есть единообразие и цельность. Экскурсия на свалку, панно, физические фрагменты нового геологического слоя — предметы, найденные на подмосковной свалке «Кучино» призывают подумать о будущем, создаваемом руками человечества сейчас. Неужто это то, что мы хотим оставить после себя?
[Рис. 70-72] Владимир Чернышев. Инсталляция «Бассейн» (2020)
«Бассейн» (2020) Владимира Чернышева фиксирует экологическое бедствие. За зеркальной чёрной гладью воды стоит рукотворная ошибка по добыче нефти. Разлив нефти, горящие леса встраиваются в природу антропоцена. Люди, как такие же населяющие Землю млекопитающие, становятся влияющими на экосистему акторами. Однако непонятно, станет ли внесённое изменение губительным для среды, или она к нему приспособится, найдя равновесие.
[Рис. 73-75] Игорь Самолёт. Выставка «Энергия ошибки» (2020)
Один из самых считываемых современных образов — экран смартфона. Виртуальное пространство несомненно определяет нашу современность. Игорь Самолёт, художник родом из Котласа (Архангельская область), окончивший школу фотографии и мультимедиа имени Родченко, своим медиумом выбрал экран. Через его скриншоты реальность интерпретируется дважды: на моменте публикации в соцсетях и в моменте художественной обработки и экспонирования. Для убедительного переноса своей визуальной системы, Самолёт создаёт стены, башни, рулоны, самолёты, ветряки и другое из скриншотов. Дата и время, фиксируемые на многих изображениях, выстраивают цикличность чувств и эмоций, помогают найти предположительный ответ на их природу.
[Рис. 76] Игорь Самолёт. Выставка «Всё, что мы помним» (2021)
Три экспозиции, представленные на документации, («Энергия ошибки», 2020; «Не все тени отброшены предметами», 2021; «Всё, что мы помним», декабрь 2021 — февраль 2022) буквально кричат о состоянии общества в эти периоды. «Энергия ошибки» (2020) убеждает в ценности физических контактов с близкими людьми и невыносимой тяжести изоляции; «Мы всё помним» (2021) показывает архивный поворот в культуре; «Не все тени отброшены предметами» (декабрь 2021 — февраль 2022) предсказывает геополитический кризис и его последствия для каждого отдельного человека.
[Рис. 77-81] Игорь Самолёт. Выставка «Не все тени отброшены предметами» (декабрь 2021 — февраль 2022)
Обилие деталей в инсталляциях позволяет зрителю найти кусочек личных мыслей и образов. Именно автобиографичность материалов позволяет добиться такой считываемости.
«Если мы говорим о качественной репрезентации коллективной травмы, то она исходит от конкретного человека, но понимается довольно большим кругом других людей» (Мороз, 2017).
[Рис. 82] Ирина Корина. Тотальная инсталляция «Таяние» (2023)
Ускользающая реальность представлена в инсталляции Ирины Кориной «Таяние» (2023). Проект посвящён процессам замораживания и размораживания и изменениям, которые происходят внутри и за пределами дома. Тканевый тесный лабиринт представляет «дом». Однако он не защищает от внешней непогоды, заснеженный ландшафт каким-то образом оказывается внутри жилища. Заставленный внутри шкафами, тумбами, он скрывает сокровища: фотографии, лампы, зеркала, керамические статуэтки людей, собак, лис, слонов и другого, знакомого по экспозиции в бабушкином серванте, которые будто остались от вышедших куда-то хозяев. Каждый отдельный шкаф будто рассказывает свою сказку. В одинокой люльке лежит гриб. После одного из поворотов зритель попадает в открытое пространство с отличающимся своей яркостью от остальных объектов алтарём и стеной, заполненной небольшими керамическими символами, будто приглашающими взять себе один, которого не хватает в жизни.
[Рис. 83-86] Ирина Корина. Тотальная инсталляция «Таяние» (2023)
Мифический рассказ об эфемерном процессе распадания реальности на маленькие, мало связанные осколки, которые обречены тонуть в безвременье до полного забвения.
В отличие от инсталляций Игоря Самолёта, Ирина Корина выдерживает дистанцию между работой и явной современностью. Её работы чуть «пыльнее», и одновременно с тем вызывают более тянущее чувство узнавания. Будто прорезается детское воспоминание, когда было всё беззаботно и легко. Оно случайно было упущено, из-за чего возникает боль ностальгии. Тогда как Самолёт апеллирует к совсем недавнему времени, которое даже не совсем ещё и стало прошлым.
[Рис. 87] Маяна Насыбуллова «Опять ничего не происходит!» (2020)
[Рис. 88] Маяна Насыбуллова «Опять всё происходит» (2022)
Работа «Опять ничего не происходит» (2020) Маяны Насыбулловой, открывающая выставку «Немосква не за горами» (2020) в петербургском «Манеже», считывается как своеобразная ирония в сторону «тупика» в развитии современного искусства в России. Показанное же продолжение, «Опять всё происходит» (2022), в triumph gallery на выставке «Между строк. Текстуальное в визуальном» (2022) будто бы нарочно пересобирает смысл произведения 2020-го года. Массовая «застойность» 20-го года, с напыщенной нарядностью (новогодний дождик), резко противопоставляется одиночному пикету облачка 22-го года, транспарант с лозунгом которого даже некому поддержать, и его закрепляет такой же одинокий камень. Усталость от постоянных социальных потрясений к 2022 году будто привязывает облако к земле. Это даже нельзя объяснить вынужденностью экспонирования работы из-за недостаточно высоких потолков пространства, ведь камень (камень на душе?) в любом случае тянет вниз.
[Рис. 89] Маяна Насыбуллова. Эскиз экспозиции «Everything Is Terrible*» (2022)
Проект Насыбулловой «Everything Is Terrible*» (2022) в музее Вадима Сидура исследует феномен катастрофы как повторяющийся процесс, разрушающий глобальную историю цивилизации. Все выставки, проходящие в пространстве музея Вадима Сидура, остаются в диалоге с творчеством скульптора. Так в поле художественной рефлексии Сидура в 1960-е годы появились темы последствий войны, насилия и человеческой трагедии, свидетелями которых он непосредственно был, которые и развивает Насыбуллова. Выбирая образ райского сада, художница наполняет этот ландшафт застывшими в крике фигурами: на фоне благополучия происходит катастрофа.
[Рис. 90-93] Маяна Насыбуллова. Экспозиция «Everything Is Terrible*» (2022)
Через этот контраст Маяна Насыбуллова выделяет проблему репрезентации травматичного опыта. Метафоры, аллегории в работах современных российских художников заменяют прямое высказывание, играя со зрителем в узнавание и считываемость. Языковая конструкция концептуального так же разрушается и перестраивается, как и психика в момент социальной катастрофы.
[Рис. 94] Маяна Насыбуллова. Экспозиция «Everything Is Terrible*» (2022)
Отдельной «деталью пазла» экспозиции становится название выставки. «Everything Is Terrible» намеренно переводят как «не всё так плохо», а этимология английского слова (от лат. прил. terribilis «страшный, ужасный» или гл. terrere «пугать, устрашать») явно подсказывает, что всё на самом деле страшно.
[Рис. 95] Слава PTRK. Стрит-арт «Мы с первого класса вместе. Бригада» (2019)
[Рис. 96] Слава PTRK. Стрит-арт «Мститель в черном. Брат» (2019)
[Рис. 97-98] Слава PTRK. Стрит-арт «Ну что, бандиты? Жмурки» (2019)
Игру с реальностью так же можно проследить в серии «Детство перед телевизором» (2018–2020) Славы PTRK, уличного художника из Екатеринбурга. Фрагменты этой серии разбросаны по многим городам России (Екатеринбург, Санкт-Петербург, Москва, Нижний Новгород, Шадринск), в большинстве своём Слава PTRK их создаёт в спальных районах, где выросло большинство. Работая с механикой памяти, художник смешивает в изображении популярные зарубежные мультфильмы, отечественные киноленты, новости, телепрограммы — всё, что окружает человека в повседневной жизни, и находит способ поиронизировать над абсурдностью смешения, современными инфоповодами и социально-политической обстановкой.
[Рис. 99] Слава PTRK. Стрит-арт «Очумелые ручки» (2019)
[Рис. 100-101] Слава PTRK. Стрит-арт «Милочка, сигареток мне дайте» (2019)
Чип и Дейл в образе героев «Жмурок» рядом с домом десантника ВДВ («Ну что, бандиты? Жмурки», 2019); персонажи «Черепашек Ниндзя» в образах из сериала «Бригады» в одном из самых криминализированных районов Екатеринбурга, известного своими ОПГ («Мы с первого класса вместе. Бригада», 2019); Жасмин — продавщица в круглосуточном продуктовом в небольшом провинциальном городе Шадринск в Курганской области («Милочка, сигареток мне дайте», 2020). Работы Славы PTRK находят узнаваемые образы не только среди отсылок к культовым произведениям, но и реальности. Иллюзия, создаваемая художником, не «сбивает с ног» случайного прохожего (невинного зрителя), а даёт ему яркий образ, который аккуратно расшатывает привычную картину повседневности, указывают на проблемные участки.
[Рис. 102-106] Тима Радя «Фигура #1: Стабильность» (2012)
Похожий эффект производят работы стрит-артиста из Екатеринбурга, Тимы Ради. Видеоработы «Фигура #1: Стабильность» (2012) и «Фигура #2: Игра» (2014) так же, как серия Славы PTRK, намеренно играют с образами. Строительство «карточного домика» из шитов, который венчает трон, или выбрасывание денег из Олимпийских колец — красивые, эстетичные истории. Концептуально обе работы основываются на событиях, о которых большинство, к счастью или сожалению, не задумывается, пропускает мимо этап «строительства» и смотрит лишь на разочаровывающий или завораживающий результат. Общественная непричастность, невмешательство, которые усиливает место, выбранное художником, — снежное поле, выражаются перформативным действием.
[Рис. 107-112] Тима Радя «Фигура #1: Игра» (2014)
«Для меня „Фигуры“ — попытка найти визуальные образы для явлений, о которых не получается говорить. Точнее мы всё время о них говорим, но в этом механизме как будто чего-то не хватает, это ни к чему не приводит. Есть вещи, о которых сложно говорить, которые сложно увидеть. Я стараюсь искать потерянные детали, ключи к этим замкам, а иногда делаю их сам» (Тима Радя, 2014).
Невыразимое настолько ярко воспроизводится Радей в действии, что никаких «но» не остаётся. Зритель вынужден согласиться с интерпретацией действительности, задуматься о том, как он раньше этого не замечал (если не замечал).
К кульминации обеих работ подводит ветер. Если в «Фигура #1: Стабильность» (2012) он разрушает построенную башню и роняет трон, возвращая природную высотную доминанту поля, то в «Фигура #2: Игра» (2014) «с лёгкой руки» тратит вложенное, бесследно закапывая деньги в снег. Метафоричность предполагаемого итога башни понятна, но с рассеиванием денег всё сложнее. Ветер играет несколько ролей: тех, кто решил выбросить неимоверную сумму на одноразовый аттракцион, тех, кто не задумался о дальнейшей жизни олимпийского «наследия», или тех, кто в своей обычной жизни не задумывается о том, куда идут его деньги. Интерпретаций может быть бесчисленное множество, но факт расточительства ветра заденет каждого.
[Рис. 113-119] Владимир Чернышев «Пустой дом» (2014)
Владимир Чернышев в работе «Пустой дом» (2014) так же безмолвно отмечает проблему. Собранный из подлинных материалов от старых, разрушающихся деревянных построек Нижегородской области, дом создан уже покосившимся и «пожившим». Напоминание о смерти, которое содержится в работе, непременное «списывание» старого — часть концепции, заявляющей попытку фиксации красоты прошлого, перед его полным исчезновением. Что можно сделать, чтобы всё вокруг о один день не стало «этнографической диковинкой», а оставалось частью реальности?
[Рис. 120-123] Софья Алексеева «Активный гражданин» (2023)
Работа Софьи Алексеевой «Активный гражданин» (2023) даёт зрителю право на причастность к окончательному решению. Инсталляция из картонных домиков и серебристых отбойных молотков для мяса ставит перед зрителем выбор: разрушать или нет. Однако многие, поддаваясь интерактивности, как методу соучастия в искусстве, бьют по хрупким постройкам. Может только после совершённого действия возникает мысль о труде художника, последующих зрителях, которым не повезёт застать разрушенный экспонат, природе своего решения.
«Я хочу, чтобы все знали, что если активный гражданин берёт отбивной молоток, то у него был выбор» (Алексеева, 2023).
Своеобразную попытку побега можно рассмотреть на примере проекта молодых художниц Ольги Парамоновой и Зухры Салаховой «beyond the blue cellar» (2023).
[Рис. 124] Ольга Парамонова и Зухра Салахова. Выставка «beyond the blue cellar» (2023)
Практика Зухры Салаховой строится вокруг языка символов, мифологии, которые она использует для «камуфлирования» от неподвластных человеку обстоятельств. Ольга Парамонова исследует грань физического и духовного. Из-за специфики абстракции и метода интуитивной работы, которую применяет художница, её произведения своеобразно прозрачны и незаметны, как по исполнению, так и концептуально.
[Рис. 125-127] Ольга Парамонова и Зухра Салахова. Выставка «beyond the blue cellar» (2023)
В центре проекта «beyond the blue cellar» сюрреалистическая инсталляция — волшебный замок, который покрыт пеленой-порталом. Доминанта является как и защитой от окружающего безумия, как и его производителем: будто из него транслируются образы, рассыпанные по камерному экспозиционному пространству. На стенах располагаются маленькие вышивки, графических триптих кролик и морковь, с потолка свисают белые бумажно-тканевые скульптуры. На отдельном подиуме стоят две башни с яркими абстрактными образами, вышитые Салаховой. Они настолько малы, что находятся будто в нескольких километрах от убежища. Сказочность выставки стремится оттолкнуть от себя весь реальный мир, максимально замкнуться в игре в миф, только бы не чувствовать экзистенциальной боли.
Один на один со всеми вопросами выходят Настя Ливаднова и Алексей Токун в видеоарте «это всё о неправильном моменте в нужное время» (2022). Перформер (Настя Ливаднова) на протяжении пяти минут рассуждает о том, кто она (а также: где она, как она, почему она, …), о своей деятельности, злится на неудачи и сложившиеся обстоятельства, переходит на вопросы к другим, повторяя как мантру, — «wrong moment and right time» — и отбивая теннисной ракеткой летящие из окна куриные яйца. Попадает, промахивается, поскальзывается и снова встаёт. И даже тридцать одновременно летящих целей её не пугают — до последнего яйца она усердно выполняет задачу. Белый стих, свойственный закадровому тексту, отлично подкрепляется первоначально чистым пространством внутреннего двора здания, в котором происходит действие. Каша из скорлупы, белка и желтка покрывает перформера и всё вокруг. Она течёт по лицу, волосам, одежде и асфальту, на этом невозможно уверенно стоять.
[Рис. 128-130] Настя Ливаднова и Алексей Токун. Видеоарт «это всё о неправильном моменте в нужное время» (2022)
«Did you expect that we would be serious at the end?»
Ливаднова и Токун оставляют открытый финал всем размышлениям. Они как психотерапевты — наталкивают на проблему и не дают ответов для её решения. Каждый сам анализирует жизнь и отвечает на экзистенциальные вопросы. Можно остаться в комфорте и жить счастливо, а можно пойти под дождь из куриных яиц и испытать «жестокую» реальность на прочность.
Эта глава собирает примеры организации воспроизведения социальных потрясений через искусство. Считывание, красной нитью проходящее через все анализы произведений, показывает как важно в «моментальном» отклике на происходящее находить язык и символы, которые будут узнаваемы сообществу, будут репрезентировать его чувства.
Живой стереотип о меланхоличном, потерянном состоянии состоит в том, что это ощущение вызывает только тоску, упадок сил и внутреннюю пустоту. Произведения «Полигон» (2021) Екатерины Балабан, «Фигура #2: Игра» (2014) Тимы Радя, «Everything Is Terrible*» (2022) Маяны Насыбулловой правда оставляют зрителя с чувством тревоги, некой апатии. Однако Настя Ливаднова и Алексей Токун с «это всё о неправильном моменте в нужное время» (2022), Тима Радя с «Фигура #1: Стабильность» (2012), «Детство перед телевизором» (2018–2020) Славы PTRK вселяют надежду и стараются превозмочь кажущуюся нескончаемой беспомощность. Наблюдения Павла Отдельнова («Русское нигде», 2020–2021), Игоря Самолёта («Энергия ошибки», 2020; «Мы всё помним», 2021; «Не все тени отброшены предметами», декабрь 2021 — февраль 2022), Романа Мокрова («Пятёрочка», 2020; «Последний человек», 2019; «Грунтовые воды», 2019) и Владимира Чернышева («Пустой дом», 2014; «Бассейн», 2020) остаются где-то посередине, фиксируя проблему и отвечая на неё художественным образом.



