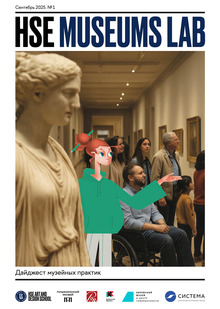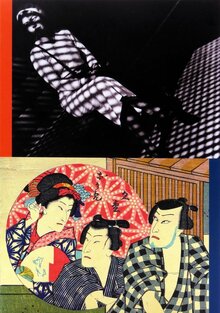Дайте слову экспонату и Гениальные лоси
Гениальные лоси как исследовательский проект для молодежи

Мы поговорили с руководительницей проекта «Гениальные лоси» — инициативы, выросшей из программы «Пушкинский.You» и ставшей самостоятельной исследовательской лабораторией. Участники проекта изучают повседневность, архитектуру и ритмы городов, создают подкасты, зины и арт-объекты, работают с темой «гения места» и ищут новые способы рассказывать о городе. В интервью — о том, как появились «Гениальные лоси», как выстраивается работа с участниками из разных регионов и почему важно давать подросткам возможность самим формулировать, каким они видят город и музей.
Юлия Коржевина — музейный педагог, руководительница проекта «Гениальные лоси»
Что такое проект «Гениальные лоси», как вы его позиционируете и как пришла идея его создания?
Во-первых, важно сказать, что «Гениальные лоси» — это исследовательский молодежный проект. Нас интересует, как мы чувствуем, видим и слышим город, и какое место отводим в нём себе. Мы занимаемся изучением повседневности — темы, которая сегодня активно развивается в музеях, медиа и разных культурных инициативах. Мы исследуем город и его жителей, а затем на основе этого создаём самые разные материалы — от подкастов до более экспериментальных форматов. Например, летом мы организовали кемп на фестивале «Архстояние». Я спрашивала ребят, как они воспринимают «Лосей» и что для них значит этот проект. Чаще всего они говорят, что это культурная площадка, где можно попробовать себя в разных ролях и понять, как развиваться в сфере городской и музейной жизни.
Если говорить о хронологии, то летом проекту исполнилось три года. Он вырос из большого грантового проекта «Genius Loci: Владикавказ–Москва», который мы реализовали совместно с филиалом Пушкинского музея в Северной Осетии. Первоначальная задача заключалась в том, чтобы исследовать гениев места — так и появилось название. Со временем латинское Genius Loci трансформировалось в «Гениальных лосей» и стало кодовым именем проекта.
История началась около четырёх-пяти лет назад. Я была в экспедиции на Северном Кавказе, приехала во Владикавказ и увидела работы ребят из местной молодежной команды филиала, которая тогда называлась «Аланика Тинз». Они делали световые проекции в городских пространствах, которые для них что-то значили. Вечером я увидела эти проекции — и они произвели на меня сильное впечатление. Мне понравились и проекты, и сама деятельность филиала. Я тогда пришла к Наташе Гомберг и предложила что-то совместно придумать. Какое-то время эта идея откладывалась, а потом мы вместе с Галой Тебиевой, руководительницей филиала, вернулись к разговору и придумали проект, в рамках которого ребята из Владикавказа и Москвы исследовали бы, что для них значит гений места, и на основе этих размышлений создавали арт-объекты во Владикавказе и подкасты в Москве.
Проект мы делали вместе с моей сокураторкой Мартой Гераловой и Марией Филатовой со стороны Владикавказа. Позже московская команда поняла, что хочет продолжать, и мы начали работать как мастерская при Пушкинском музее, изучая гений места уже в более широком контексте. Тогда мы для себя сформулировали: гений места — в уникальном, а уникальное — в повседневном. С этого всё и началось.
Сейчас «Гениальные лоси» — уже не мастерская при музее. Мы существуем отдельно, но остаёмся дружественным проектом Пушкинского Ю: дружим, любим друг друга, развиваемся в разных пространствах и говорим на разные темы. Вот так всё началось.
В чем заключается идея и задача формата «Гений места»?
Если говорить, почему мне нравится эта тема, то меня вдохновлял и продолжает вдохновлять журналист Пётр Вайль, который написал книгу «Гений места» — такой путеводитель в формате эссе, где он сравнивал города по принципу того, какие люди в них жили, что делали, чем запомнились, как повлияли на местность. Мне хотелось делать что-то подобное в городских исследованиях, потому что казалось, что история про гений места — это не только про громкие имена. Во-первых, это возможность ребятам из разных городов осознать, что мы воспринимаем город по-другому, если там есть дорогой нам человек. Для нас эта территория становится более близкой, тёплой, родной, понятной. Во-вторых, можно смотреть не только на биографии людей, которые широко рассказываются — часто приезжаешь в город, и тебе говорят: вот здесь родился, женился, умер, творил такой-то человек, вот наш условный гений места. Но на одном человеке жизнь не заканчивается, и проявление уникального, за что мы любим города, может быть скрыто в чём-то другом.
Один из характерных примеров: участница из Владикавказа поняла суть того, что мы пытались выявить, когда поехала в Тамбов к бабушке и сказала: «Я заметила, что заборы там очень низкие, маленькие, вообще как бы не существует. А у нас во Владикавказе они большие, с бутовой кладкой. Оказывается, в таких мелочах города отличаются друг от друга». И главное, она сказала: благодаря этой повседневной детали я стала понимать, чем отличается один город от другого. Практика поиска гения места для меня лично в том, чтобы пробовать избавляться от шаблонных установок, связанных с биографиями людей, и наблюдать за собой. Это важно, потому что весь проект направлен на то, чтобы ребята пытались найти свою точку интереса в городе или музее и понять, почему о ней будет интересно послушать кому-то другому.
Какой возрастной диапазон участников и как вы подбираете ребят? Варьируется ли это от проекта к проекту?
Можно рассказать, как собирается команда. В шапке нашего профиля в Телеграме указаны мои контакты. Я провожу с каждым участником разговор — не собеседование, потому что я никого не отсеиваю. Мне важно посмотреть, что нравится и хочется делать человеку, как он думает о городе, что его цепляет в городской среде, почему он узнал про «Гениальных лосей» и захотел участвовать. На основе этих вопросов я стараюсь выбирать подходящий образовательный трек для подростка. Если говорить про возрастной диапазон, то когда мы начинали, это было примерно от 14 до 22 лет — это попадало в категорию подростков. Сейчас проект растёт вместе с участниками, и средний возраст — одиннадцатый класс, первый курс. Он из подросткового перешёл в стадию молодежного, но действительно был подростковым в какой-то момент.
Какие форматы вы используете? Вы упомянули подкасты, кемп. Что ещё есть — экскурсии, лаборатории?
Тот проект с Владикавказом завершён, упакован и представлен на сайте. «Гениальные лоси» — это продолжение с новыми установками. Форматы выбираются в зависимости от того, как участники хотят представить своё исследование про музей или город. Это подкасты, посты в Телеграм-канале, мастер-классы. Например, у нас были выпуски про музейные архивы, и к одному из них мы сделали мастер-класс по мейл-арту — направлению в искусстве XX–XXI веков, когда художники украшают конверты. Это стало распространённой практикой. Также это прогулки — фотопрогулки или виртвотчерские. И большие спецпроекты: мы делали зин про Тарусу, рассказывали, как развивался город в 60–80-е годы, как сосуществуют лирики и физики, почему там много представителей творческих профессий. Мы ездили в Тарусу, общались со старожилами и делали зин. Или, например, кемп на «Архстоянии» — мы разрабатывали публичную программу для большого фестиваля. Так что работаем в разных направлениях и техниках.
Как строится работа с участниками? Вы упомянули, что в зависимости от запроса определяете образовательное направление. Что это за методики, теории?
Основное поле, которое меня интересует, — городская антропология. Нам важны люди, то, как они себя чувствуют в городе, как проявляются их интересы, желания, мечты в городской среде. И как желания «гениальных лосей» отражаются в материалах, которые они выпускают. То есть фокус на человеке. Даже если ребятам, которые учатся на искусствоведов или хотят быть историками искусства, нравится говорить про архитектуру, это всегда социальный взгляд — социальная история искусства. В основном я бы назвала это антропологией, может быть, с элементами социологии, но таких компетенций у ребят пока нет.
Если говорить про жизнь внутри проекта, то есть образовательные встречи и рабочие встречи, потому что без образовательного компонента не получается создавать продукты. Мы стараемся встречаться раз в неделю, обсуждать разные темы. В рамках этих обсуждений могут рождаться новые материалы. Иногда это рабочие встречи, где мы говорим о том, что получилось, не получилось, что хотим делать дальше.
Моя глобальная мечта — чтобы «Гениальные лоси» превратились в бюро, которое могло бы решать задачи разных музеев и малых городов с помощью своих инструментов. Я представляю, что у сотрудников музеев малых городов много задач, и даже если хочется сделать продукт, который продвигает коллекцию музея, пространство вокруг или бренд города, может прийти молодая команда и решить это. Мы пробовали так делать с Тарусой, сейчас делаем антигид по Сергиеву Посаду. Хочется развивать проект в таком ключе, обучая ребят тем дисциплинам, которые я перечислила. Получится бюро из антропологов, которые умеют делать многое — от художественных работ до монтажа подкастов.
Какие запросы у участников или партнёров были за последнее время? Например, идентичность, семейная история, культурное наследие?
Вы перечислили глобальные тренды в выставках и проектах — семейная история, идентичность. Если говорить про партнёрство, например, мы активно сотрудничаем с издательством «Маргинем», и у ребят часто был запрос на личные переживания людей о городе. То есть низовой уровень, когда люди делятся впечатлениями о месте, воображают его по-новому, фантазируют, как бы выглядело пространство, если бы в нём было всё хорошо. Например, одна из участниц проводила во Владивостоке мастер-класс по воображению Владивостока будущего и рассказывала, зачем горожанам мечтать и представлять новые города.
В случае с Тарусой — это история про семейную жизнь, генеалогию, культурные связи. Среди участников очень разные запросы. Одна девочка, когда приходила в проект, говорила, что хочет придумать проект про собственную идентичность, которая размывается в мегаполисе, где не важно, кто ты по национальности, а важно, из какого ты города и как встроен в него. Другая участница, с основания «Лосей», сама из Петропавловска-Камчатского, а сейчас переехала в Петербург, хочет думать про переезд, адаптацию, опыт миграции. Если говорить про идентичность, то одной из участниц важно поднимать вопросы, связанные с женщинами в городе, стигмами, страхами, с которыми они сталкиваются, — подсвечивать это со своей позиции. Или, например, темы бездомных. То есть просветительский взгляд. Интересов много: кто-то любит театры и хочет рассказывать, как они существуют в городе. Запросы разные, но треки, связанные с городской урбанистикой, идентичностью, разговорами с бабушками и дедушками, сохраняются в культурном поле. Это проявляется и в партнёрствах, и в проектах ребят.
Как вы взаимодействуете с участниками из разных городов? Какая география проекта?
Я люблю говорить, что у нас широкая география. Сейчас в основном ребята из Москвы, Петербурга и Петропавловска-Камчатского. Мы преодолеваем часовые пояса и расстояния с помощью мессенджеров. Раньше я была в Москве, и большая часть команды тоже. Сейчас я живу в Санкт-Петербурге, и в прошлом году было вызовом сохранять ощущение сопричастности. Мы решаем это через спецпроекты, когда нужно куда-то поехать, готовимся, встречаемся, общаемся. Также это регулярные встречи онлайн, в этом году хочу попробовать гибридный формат. И, конечно, поддержка в личном общении с ребятами.
Расскажите про партнерства. Ждать ли нам книгу, справочник? С кем вы работали в сфере культуры?
Я мечтаю сделать книжку, это было бы здорово. Из партнёрств: мы, выросшие из Пушкинского музея, с радостью говорим про взаимодействие с ГМИИ. У нас был целый сезон про музейных гениев места, где мы разговаривали с людьми, которые невидимы для посетителя. Ребята брали интервью у сотрудников музея, болтали про то, как музей работает и как встроен в город. Этот выпуск подкастов был ценен тем, что у ребят появилось понимание, как институция встроена в городскую среду — не просто вещь в себе с белыми колоннами у метро «Кропоткинская», а с историями, пересечениями, связками. Был выпуск про музейный городок и архитектуру музея с Наташей Крутилиной, тогда архитектором Пушкинского, она рассказывала про добрососедство между музеями.
Мы активно дружим с городом Тарусой — смешно брать в партнёры город, но из-за зина нам пришлось взаимодействовать с разными проектами там. Мы проводили презентацию зина в Доме литераторов в формате аукциона воспоминаний, просили горожан делиться рассказами про тарусские места. Также работаем с независимыми книжными, ярмарками зинов. Сейчас хотим делать игру в карточках с ребятами из DigiDigit — проекта, который делает прогулки по городам увлекательными. Ещё из партнёрств — «Архстояние». Бывают микропартнёрства: кто-то записывает подкаст с участниками, и мы начинаем дружить. Недавно девочка записывала выпуск про ВИЧ и важность говорить про заболевания в городе, и мы пополнили копилку партнёрств спеццентром. Или работали с Камчатским краевым музеем, записывали выпуск подкаста. Так что партнёрства разные.
Как вы видите динамику проекта за три года? Что принципиально изменилось в организации, процессах?
Многое поменялось. Во-первых, из мастерской при музее мы выросли в независимый проект. Раньше мы были сообществом внутри Пушкинского Ю, теперь это отдельный проект со своим сообществом, хотя генеалогия с музеем прослеживается. Во-вторых, масштаб и уровень проектов. Я уже говорила про идею сделать исследовательское молодежное бюро, которое могло бы выполнять спецпроекты для музеев и городов, потому что у ребят много компетенций — вёрстка, монтаж, рисунок, дизайн. В-третьих, проект растёт вместе с участниками. Я каждый год провожу встречи с каждым, разговариваю, как им год в проекте, что хочется делать, куда расти. Раньше это были пробы — записать выпуск подкаста, вести рубрику. Сейчас звучит амбициознее, требует больше работы. И если раньше проект ассоциировался с подкастами, то сейчас переформатируемся на материальные продукты, которые можно держать в руках, передавать, дарить. Также появился большой образовательный пласт. Сейчас хочется больше работать на устойчивость и жить в сообществе. Это скорее рабочий проект с элементами образовательного, чем чисто образовательный, как раньше, потому что участники уже многое умеют. Образовательная нотка появляется по требованию — если чувствую, что что-то проседает, организую лекцию, встречу или мастер-класс.
В чём ценность проекта для музеев? Чем он может быть полезен с точки зрения философии и исследовательской парадигмы?
Если говорить про философию, то мы живём в мире, где музеи давно перестали быть местами, где выставляются шедевры, на которые мы приходим посмотреть трепетно и выходить преобразованными. Понимание, что музей — это структура, где работают люди, которые своими интересами влияют на экспозицию, выставочные планы, — видеть за зданиями людей и понимать, что в них ценность музейного мира, это подход, который мне хочется транслировать. Это важно и для города, и для музеев. Когда мы делали лабораторию в Камчатском краевом музее или записывали подкаст, мы обсуждали, что краеведческие музеи кажутся похожими, но разобраться, почему они выглядят так, кто повлиял, — это позволяет очеловечить институции. Эффект очеловеченности позволяет трепетнее относиться к городу, музеям, пространству, где живёшь. Если знаешь, что это не просто стены, а то, что делали люди до тебя, отношение другое — более вовлечённое, трепетное. Думаю, в этом философия проекта.
Почему важно привлекать подростков к работе с музеями и культурными институциями?
Музей — для всех возрастов в идеальном мире. Хочется, чтобы все группы были представлены в балансе. Лаборатории — не панацея, они не всегда хорошо работают. Обращусь к опыту Пушкинского музея: там сотрудники понимают, зачем им подростки. Это свежий, незамыленный взгляд, люди, которые задают разные вопросы. Взрослые часто боятся осуждения, а подростки — нет. Креативность, желание узнавать новое, новый подход — это облегчает жизнь всем. В Пушкинском кураторы выставок приходили к Пушкинскому Ю и предлагали сделать стикеры для выставки. Нужно отойти от позиции, что дети в музее — это те, кого нужно развлекать. Музей — площадка для дополнительного образования, её не стоит выкидывать из спектра услуг для подростков и молодёжи. Когда в школе на уроках МХК погружают в периоды живописи, встреча с подлинником в музее важна. Не показывая это ребятам, музей получает меньше узнаваемости, а у ребят — меньше желания ходить в него. Подростковая аудитория часто воспринимается с хаосом, но можно сделать музей местом, куда приятно возвращаться. Когда мы делали лабораторию в Петропавловске-Камчатском, после неё ребята знали, как устроен музей, что на втором этаже работает Ира, с которой можно обсудить что-то, что по понедельникам музей не работает, но уборщица любит музыку, что главный хранитель всегда их ждёт. Музей становится третьим местом в городе — это прикольно.
Как укрепить связь подростков с музеями? Что музеям не хватает для этого?
Хочется пожелать избавляться от шаблонов, связанных с любым возрастом. У каждого возраста своя специфика. Ставить во главу угла проблему клипового мышления подростков, которое не позволяет им смотреть на картины, — странно. Может, они в своём клиповом мышлении найдут больше, чем мы. Мы не искусствоведов выращиваем, а критически думающих детей. Нужно показать разнообразие мира. Если объяснить всем сторонам, зачем это нужно, все понимают, что предприятие классное. Если не запускать диалог, возникает противоречие непонятных детей, куда их деть. Думаю, дело в диалоге и отсутствии встречи.
Дайте слово экспонату
Лаборатория «Дайте слово экспонату», инициированная ГМИИ имени А. С. Пушкина совместно с Камчатским объединённым краеведческим музеем в рамках фестиваля «Звук вокруг» в 2024 году, помогла подросткам взглянуть на музей по-новому. Проект был направлен на то, чтобы услышать «голос» музея, понять, о чём молчит краеведческая коллекция, и найти ответы на вечные вопросы: кто мы, откуда и куда идем.
Задача лаборатории — ответить на вопросы
-что в музее можно узнать про себя? -какие истории может рассказать музейный экспонат? -почему ходить в музей полезно для выбора профессии? -можно ли быть модным краеведом?
Результаты лаборатории
-проведение экскурсии, квеста, прогулки по городским арт-объектам - музейный мерч и рекламную кампанию для музейных экспонатов -выпуск подкаста про Камчатский музей

Ирина Салыкова, куратор лаборатории, старший научный сотрудник Камчатского краевого объединенного музея
Интервью «Дайте слово экспонату»
Это было около года назад, поэтому мне немного сложно говорить о своих впечатлениях. Тогда они были яркими, сейчас, конечно, всё подутихло. Наш музей никогда не работал с подростковой аудиторией в таком формате, как эта лаборатория.
Я знакома с различными практиками, потому что мне это интересно, мне хотелось бы в ней развернуться. Я интересуюсь, где что проходит, как проходит. Пушкинский музей приезжал к нам в третий раз, я уже знакома с их руководителем Натальей Гомберг. Меня заинтересовало то, как они работают с подростками.
В нашем музее никогда ничего подобного не было. Если у нас проходят мероприятия для подростков, то это больше стандарт. Мне показалось в этой лаборатории, что мы ценим их мнение, а не хотим донести информацию в формате «вы должны это знать». Это совместный проект, где ты участвуешь, помогаешь им раскрыться, по-другому взглянуть, и у тебя есть возможность тоже по-другому посмотреть на свою деятельность.
Я ждала, когда же наш музей задействуют в этом проекте, потому что это музейная история, а музеи толком не участвуют в процессе. Но так получилось, что всё совпало. Я была знакома с проектом Юли Коржевиной «Гениальная ось» до знакомства с ней. Мне было интересно с ней пообщаться, потому что у меня есть идеи, связанные с историей города.
Вот здесь всё собралось: и Юля, и опыт взаимодействия с ребятами в таком формате. Всё совпало. Я экспозиционер, делаю выставки. Изначально я думала, что для лаборатории нужно подключать других людей. Но они были в отпусках, и я подключилась сама. Я ни капельки не жалею. Я бы так или иначе участвовала в этой истории, но здесь получилось, что это совместная работа.
Лаборатория — это что-то временное, нельзя постоянно так работать. Опыт Пушкинского музея — это результат многолетней работы, чтобы всё стало в таком формате. Поэтому, когда говорят «нужно работать с подростковой аудиторией», нужно задуматься, готовы ли мы к этому. Просто взять такой же опыт и повторить не получится. Это дало мне то, что сейчас у нас реализуется проект, поддержанный фондом, и в его рамках я должна проводить несколько лабораторий, ориентированных на подростковую аудиторию. Мне хотелось дальше с ней поработать.
Этот проект писался в 2023 году на 2024 год еще до участия с Пушкинским музеем. У меня уже были задумки, как реализовывать лаборатории в рамках моего проекта. А тут я получила этот опыт и понимаю, что могу его использовать. Когда пишешь заявку, у тебя одни условия, а при реализации концепция может немного поменяться.
Я ориентировалась на другую аудиторию, у меня были соучаствующие проекты, где участвовали взрослые люди, и для них это было, наверное, интереснее. Но я всё равно хочу поработать с подростковой аудиторией и поэтому решила, что мне нужно дальше. Я обратилась к Юле за помощью, потому что у нее большой опыт. В рамках проекта в ноябре я буду реализовывать отдельную подростковую лабораторию. Я хочу закрепить полученный опыт. Не знаю, во что это дальше в музее выльется, но здесь уже будет самостоятельная работа. Посмотрим, что получится.
Был ли отклик от подростков? Заметили, что ребята возвращались в музей или больше заинтересовались музейной историей?
Это был не тот случай, когда школьники приходят в музей и мечтают поскорее уйти. У них, наоборот, появилось желание остаться, что-то сделать, внести свой вклад. Когда проект завершился, на презентации они были в восторге от результатов и говорили: «Мы готовы еще что-нибудь делать». Это был совершенно особенный отклик — живой, искренний.
Конечно, мы понимали, что некоторых ребят привели родители. Кто-то раскрылся, кто-то дошел до конца, а кто-то, наоборот, не пришел на следующий день. Но был один мальчик, которого буквально уговорили сходить: «Если не понравится — можешь не ходить». А ему, наоборот, понравилось. Он был довольно замкнутым, но нашел в этом проекте интерес. Девочка ему понравилась: не в романтическом смысле, а потому что у них оказались похожие увлечения. Ты можешь быть, например, белой вороной в своем классе, а здесь вдруг найти человека, с которым тебе по-настоящему интересно и который тебя вдохновляет. Вот такой момент действительно был.
«Работа с подростковой аудиторией, наверное, даже сложнее, потому что ты должен быть с ними откровенен. Не будет откровенности — ничего не получится».