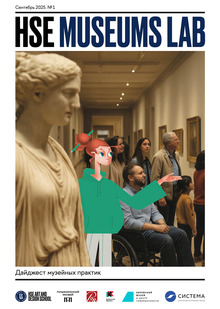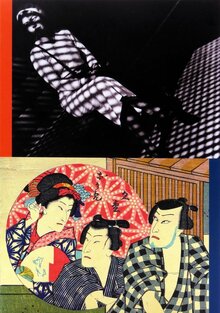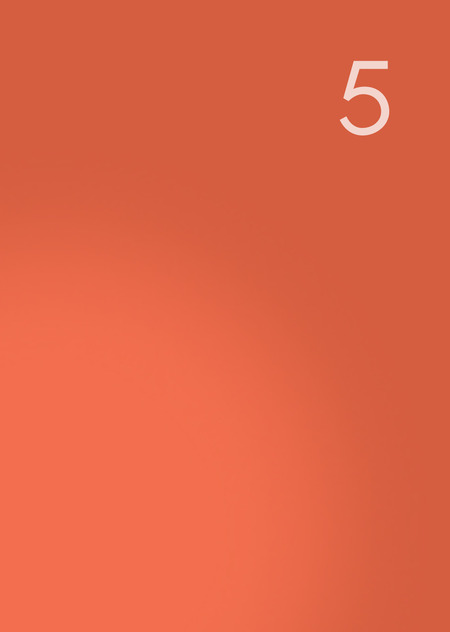
Еврейский музей и центр Толератности

Директор Центра толерантности Еврейского музея рассказала, как музей работает с подростками: какие программы реализует, как привлекает молодую аудиторию к участию и что получает взамен. В интервью –– размышления о месте подростков в культурной жизни общества, наиболее актуальные для молодой аудитории темы, способ оценки эффективности проектов и подход к взаимодействию с родителями и педагогами.
Анна Макарчук — директор Центра толерантности Еврейского музея.
Как вы для себя формулируете, кто такие подростки сегодня?
Подросток — это, прежде всего, человек, находящийся в очень уязвимом возрасте. Эта уязвимость напоминает оголенную кожу. Или даже человека без кожи. Если позволите такую зооморфную аналогию, это похоже на ящерицу, которая линяет, только если бы она делала это один-единственный раз в жизни. Старые модели поведения и роли уже отжили свое, а новые еще только формируются. В то же время это удивительно красивый и, на самом деле, чрезвычайно насыщенный период жизни. Мне не близко отношение к подростковому возрасту как к чему-то, что нужно, зажмурившись, «проскочить». Ведь именно этот период влияет на всю дальнейшую жизнь человека. Мне кажется, это время, которым стоит любоваться каждый день.
Какое место подростки занимают в культурной жизни общества?
Подростки сегодня меняют мир сильнее, чем когда-либо прежде в том числе потому, что он становится цифровым, а значит, более открытым. Их уязвимость, внутренний надрыв — это огромный источник творчества. Почти каждый из нас, даже если сейчас не пишет, не рисует и не сочиняет, в подростковом возрасте наверняка пробовал себя в творчестве. И даже те, кто продолжает творить, чаще всего впервые почувствовали настоящий контакт со своей внутренней свободой именно тогда, в юности.
Подростковый возраст — это невероятный источник энергии и вдохновения. Они находятся в постоянном движении, в поиске, в процессе становления. Они формируют новую языковую культуру, меняют способы самовыражения и общения.
Кроме того, сегодня подростки играют огромную роль не только как создатели, но и как пользователи. Чтобы влиять на то, что становится популярным, теперь не нужно быть экспертом — достаточно быть внимательным зрителем, слушателем, читателем. Подростки своим интересом «голосуют» за искусство, которое им близко, и этим легитимизируют новые формы и направления. Параллельно у них есть возможность издавать книги, делать выставки, придумывать собственные проекты, и это замечательно. Их творческий потенциал всегда был велик, а сейчас, к счастью, у них есть и инструменты, и пространство для того, чтобы его реализовать. Наша задача, как взрослых, — помочь этому происходить.
Какие большие темы становятся самыми актуальными в разговоре с подростками сегодня?
Оставим в стороне вечные подростковые темы — дружбу, любовь, поиск себя. Сегодня, мне кажется, для подростков особенно значима повестка устойчивого развития во всех ее проявлениях: от экологии и бережного отношения к природе до прав человека и достоинства. Это действительно вдохновляет, потому что нынешние подростки — те, кто способен изменить мир. И в этом есть что-то поразительное: невозможно заставить человека чего-то захотеть. Мы можем помочь, подсказать, но желание должно родиться внутри. Поэтому так трогает их искренний интерес к темам устойчивости и ответственности.
Как вы разрабатываете программы и мероприятия для подростков?
Мы сейчас переживаем настоящую революцию в подходах к работе с подростками. Есть простой, но не совсем честный способ взаимодействия с ними, условно говоря, формат B2B. Это бесчеловечный подход, когда решение о том, чтобы подросток пришел в музей, принимает кто угодно, только не он сам. И это совершенно несправедливо. Когда на занятия приходят подростки, которые не просто не понимают, зачем они здесь, но и не очень представляют, куда попали, от этого становится грустно. Это нечестно с одной стороны и несправедливо с другой.
Мы идем путем партиципации: стараемся создавать программы, продукты и сервисы вместе с подростками, приглашая их быть полноправными соавторами. Кажется, это правильное направление: с него стоит начинать и пробовать. Сейчас мы тестируем квесты по музею, созданные глухими подростками. Для нас важно не только то, чтобы они нашли в музее близкие им истории и придумали актуальных персонажей, но и чтобы мы могли показать им прототипы, услышать их обратную связь и вместе доработать формат.
Уже в ноябре появятся инклюзивные видео-квесты на русском жестовом языке с аудиодорожкой, созданные в лаборатории музея. В это же время откроется выставка комиксов о межкультурной коммуникации «Культ-миксы». Истории для нее тоже придумали подростки. И особенно ценно, что они будут участвовать не только в создании содержания, но и в оформлении выставочного пространства.
Как вы определяете, что программа «работает» именно с подростками — есть ли критерии эффективности или формы обратной связи?
Когда мы начинали придумывать идеи, прежде всего наблюдали: как подростки ведут себя в музее, где останавливаются, что их увлекает, где они улыбаются, а какие залы проходят мимо. Мы с ними разговаривали, и это помогло сформировать первые гипотезы.
Так, три года назад из таких наблюдений родился проект «Место историй». Мы заметили, что в музее есть места, которые неизменно притягивают подростков, например, инсталляции о шабате или еврейской кухне. А есть темы, к которым они почти не проявляют интереса, хотя за ними стоят сильные человеческие истории. Мы решили помочь подросткам осмыслить этот материал и почувствовать его значимость. Так появилась идея объединить музей и подростковый плейбэк-театр.
Плейбэк-театр — это импровизационный формат, где актеры разыгрывают истории, рассказанные зрителями прямо в зале. Для подростков подобная практика встречается редко: насколько нам известно, в России таких коллективов всего три, и один из них — наш. Мы построили проект как короткое путешествие по музею: сначала небольшая экскурсия, посвященная одной из еврейских судеб, затем мини-тренинг, где участники размышляют о ценностях, стоящих за поступками героя, и соотносят их со своими. Завершает встречу плейбэк-перформанс: подростки делятся личными историями, связанными с темой, и видят их отражение в исполнении своих сверстников.
Так музейные сюжеты оживают, а прошлое соединяется с настоящим через общие человеческие ценности. Мы стараемся не задавать готовых смыслов: подростки сами определяют, что для них важно. И если они приходят, участвуют, рассказывают, значит, это действительно работает.
Как вы привлекаете подростков к участию — через школы, соцсети, личные инициативы? Что работает лучше всего?
По-разному бывает. В проекте «Место историй» мы распространяли информацию главным образом через школы-партнеры, и это оказалось удачным решением. Формат предполагал не просто участие класса по инициативе педагога, а личный выбор подростков. Учитель мог передать информацию, но решение принимали сами школьники, и это решение действительно много значило. Ведь, чтобы стать участником, нужно было быть готовым посвятить проекту почти весь учебный год: еженедельные встречи, репетиции, работа в команде. Это была настоящая инвестиция времени и внимания.
Проект «Игра слов», посвященный подростковым квестам, стал для нас серьёзным экспериментом. Мы взаимодействовали через сообщество глухих людей, и способы донесения информации здесь были очень разные: не всегда подростки напрямую были его участниками, поэтому часто о проекте узнавали через родителей или через небольшие локальные сообщества. Для нас это тоже опыт: мы, взрослые, учимся взаимодействовать с новой, очень специфической аудиторией. Глухие подростки похожи на «иностранцев» в привычной музейной среде: они говорят на другом языке — русском жестовом, и пока мы только осваиваем его, общаясь при помощи переводчиков.
В проекте «Культ-миксы» мы, наоборот, пошли по пути максимального расширения круга участников — открыли большой опен-колл и рассказали о проекте как можно шире, приглашая подростков со всей страны.
Работаете ли вы с педагогами, чтобы они могли продолжать темы Центра в своих школах/курсах?
Одна из составляющих нашей миссии — гуманизация образования. Мы стараемся повернуть педагога лицом к школьнику, как к человеку; выстраивать эти коммуникации уважительно, на равных и максимально субъектно. У нас даже есть специальные программы повышения квалификации для педагогов, и мы объехали полстраны, чтобы научить педагогов вот этому иному отношению, в первую очередь, к подросткам, а уже потом к историческому наследию, культуре, к друг другу и так далее, — все это лишь темы и фоны, а фигурой в этом является то, чтобы трансформировать свое объектное отношение к подросткам. Это правда очень важная, системная, осознанная нами работа.
Заметили ли вы повышение интереса к институции со стороны подростков? Был ли какой-то отзыв, возникало ли у ребят желание попрактиковаться, вернуться в музей уже в качестве сотрудников?
Это довольно типичная история для ребят, которые участвовали в наших проектах. Многие из них остались с нами как волонтеры, возвращаются с новыми идеями, историями, предложениями. Мы поддерживаем связь со многими, и для нас это действительно важно.
Стали ли они иначе относиться к искусству? Не уверена — все-таки искусство не совсем моя сфера. Моя компетенция — люди. Но я точно вижу, что они поверили: музей — это место, достойное не только того, чтобы прийти туда как посетитель, но и того, чтобы посвятить ему свое время и силы, помочь ему развиваться и жить дальше.
Как вы выстраиваете отношения с родителями — вовлекаете ли их в процесс или, наоборот, создаете отдельное пространство только для подростков?
Родители — самая сложная для нас аудитория. С одной стороны, большинство посетителей музея — это именно они. Но приходят они чаще не как родители, а как обычные посетители, которым просто захотелось провести время в музее. Чтобы наладить с ними более глубокий контакт, увидеть в них именно родителей, нам приходится создавать отдельные форматы общения — нативно это не работает.
Иногда, конечно, они интересуются: «А как там ваш детский театр? Можно ли прийти?» — и это совершенно естественно. Но если говорить о содержательном разговоре, то у нас есть два направления. Во-первых, мы взаимодействуем с родительскими сообществами, например, с целой школьной группой, которая любит наш музей и с которой мы можем обсуждать темы, связанные с подростками. Во-вторых, у нас есть линейка психологических программ для родителей: совместно с Институтом психоанализа мы регулярно проводим родительские марафоны. Они рассчитаны на тех, кто приходит именно в роли родителей, чтобы помочь им лучше понять своих детей, а нам — услышать их тревоги и ожидания.
Есть ли в музее штатный или привлекаемый психолог, который работает с подростковой аудиторией?
Недавно мы посчитали и, кажется, можем претендовать на звание чемпионов России по количеству психологов в музее. Более 21% наших сотрудников имеют первое или второе психологическое образование. Центр толерантности изначально задумывался как институция, объединяющая психологов, в том числе подростковых, поэтому у нас не один специалист, а целый департамент.
При этом мы активно сотрудничаем с внешними экспертами, ведь наш формат — это всегда интерактивная коммуникация, а работа с подростками требует особого внимания к формам сотворчества. Когда речь идёт о когнитивной экспертизе, мы обращаемся к партнерским вузам, например, к Московскому институту психоанализа, который является одним из наших постоянных источников профессиональной поддержки.
Можно ли сказать, что работа с подростками изменила сам Центр: его методы, язык, атмосферу?
В начале моей профессиональной карьеры, когда я часто работала с подростками в школах, я всегда знала: подростки — это мощь. Особенно четырнадцатилетние: они могли в клочья разнести весь тренинг. Иногда мне даже было страшно идти на занятия, потому что они полностью разрушали привычную дисциплину. И всё же я по-прежнему думаю, что подростки — это мощь. Может быть, даже ещё большая, чем раньше. Просто теперь я понимаю, что эта сила требует другого подхода: если её направить, она становится созидательной. Но для этого нужно отказаться от идеи дисциплины как ценности и заменить её на принятие, доверие, совместное выстраивание правил. Тогда становится видно, как та же энергия начинает работать конструктивно. Ещё одно важное наблюдение, которое пришло с опытом: мы часто идём на занятие, понимая, что для кого-то из этих подростков это может быть первый опыт равного взаимодействия со взрослыми. И от этого каждая встреча становится особенно значимой. Такой опыт — редкость, хотя именно он должен быть нормой.
Есть ли личная история или момент, который убедил вас, что Центр делает важное дело?
Таких историй много. Из них, к счастью, и состоит наша работа. Сейчас почему-то вспомнилась одна из первых, хотя и не самая показательная. К нам тогда пришла девочка-подросток не на программу, не с классом, просто сама и сказала, что хочет быть причастной к нашей деятельности. Мы общались с ней около трех лет, потом она закончила школу. Это было лет шесть, а то и больше. И тот факт, что она до сих пор иногда пишет или звонит, хотя живет уже в другой стране, что эта ниточка между нами не оборвалась даже после пандемии и всего, что происходило в мире, — заставляет верить: годы совместной работы были и остаются для нее важными.
У этой истории нет KPI — вроде того, сколько участников потом становится нашими сотрудниками. Да и трудно вообще измерить то, что связано с живыми людьми. Конечно, какие-то метрики нужны, но как измерить момент, когда после занятия подросток подходит и просто хочет тебя обнять? Как это посчитать? Не знаю.
Вспомнилась еще одна история. Несколько лет назад к нам на программу пришла девушка-подросток. Мы тогда учили ребят, как взаимодействовать с людьми с инвалидностью, ведь вокруг этой темы всегда есть страхи и неловкость. Спустя время она стала нашим волонтером, а потом, уже в университете, провела похожее обучение для своих однокурсников. Когда она пригласила меня выступить на этом занятии, для меня это стало настоящей наградой.
Неделя Толерантности в музее
Неделя Толерантности — ежегодный проект Еврейского музея и центра толерантности, раскрывающий силу человечности и искусства. Тема недели толерантности в этом году — буллинг и кибербуллинг. С 17 по 20 ноября музей станет местом проведения 11 событий: лекций, спектаклей, квестов, перформансов, выставок, публичных дискуссий и киноклуба, на которых участники узнают о причинах возникновения буллинга, его формах, способах противодействия и бережном решении сложившейся ситуации.
Неделя Толерантности направлена на укрепление культуры взаимного уважения и психологического благополучия в обществе. Итогом становится создание устойчивых сообществ, объединённых ценностями диалога и эмпатии, расширение партнёрской сети и развитие общественной дискуссии о ментальном здоровье. Проект способствует укреплению роли музея как открытого «третьего места» и надёжной площадки для взаимодействия, что задаёт импульс для новых инициатив.
Перфомативная лаборатория для подростков
Образовательный отдел Еврейского музея и центра толерантности организовал перформативную лабораторию для подростков «Взволнованный я» и итоговый танцевальный показ «Последний день лета». В рамках лаборатории участники работали с методом «Гага» Охада Нахарина, воскрешали в памяти места, чувства и события, переводили образы в опыт тела, возвращались в точки на карте памяти, выбирали наиболее волнующие детали и делились ими друг с другом.
Прогулка по парку, взгляд в толщу воды, первый выход на сцену, домашняя люстра, утренний чай, встреча с родителями — обычное, волнительное или важное воспоминание они наделяли формой, располагали в пространстве, искали связь между событием, тактильными ощущениями и материальным присутствием.
Показ состоял из четырех пьес: «индивидуальное воспоминание», «совместное переживание», «формулирование текста» и «статическое рассредоточенное поле коммуникации, приглашающее в танец».
Отзывы участников
«Работа с задачами помогла найти новые паттерны движения. Я узнала, в какой скорости мне комфортнее работат, как мне нравится играть на контрасте, сосредотачиваться на звуках и малейших ощущениях на коже, растворяться в воздухе и погружаться в воздух, ловить чужие взгляды, обращать внимание на мелочи, находить новое в одних и тех же уголках… я наверное вспомнила сейчас только малую часть, ценных моментов и находок было определенно больше».
–– Кира
«После сборки перфоманса я чувствовала невероятное волнение и удовлетворение. Это было, как „собрать пазл из эмоций и движений“. Я открыла для себя, насколько важно доверять своим партнёрам и быть в едином ритме с командой. Каждый элемент танца стал отражением моей общей энергии и настроения. Я также осознала, как танец может передавать глубокие чувства и истории через воспоминания и, это вдохновляет меня продолжать развиваться».
–– Ева
«Мне кажется у меня поменялось воспри-ятие тела. Как будто теперь у него есть четкие, но при этом мягкие границы, и я их ощущаю. Даже не сколько про границы речь, а про вот это ощущение каждой своей конечности, и что ты контролируешь ее. И что за счет вот этого контроля ты застав-ляешь свое тело слушаться, и двигаться так, как ты хочешь. А еще мне кажется что я стала намного раскрепощений как в физи-ческом так и в эмоциональном смыслах. Сейчас я чувствую себя увереннее, чем до лаборатории»
–– Анастасия