
СОДЕРЖАНИЕ
— Tracking — Breacking the 4th wall — Over-the-shoulder — Point-of-view
Одно из самых очевидных решений для создания ощущения преследования — использование tracking shot (в переводе — «отслеживающего» или «следящего» кадра).

Этот приём давно стал одним из излюбленных инструментов современного кинематографа. Если в эпоху зарождения кино тяжёлое оборудование серьёзно ограничивало мобильность камеры, то сегодня режиссёры с лёгкостью снимают целые сериалы и полнометражные фильмы непрерывным кадром. Яркие примеры — нашумевший сериал Adolescence, где движение камеры становится неотъемлемой частью повествования и драма «1917» имитирующая двухчасовой однокадровый формат.
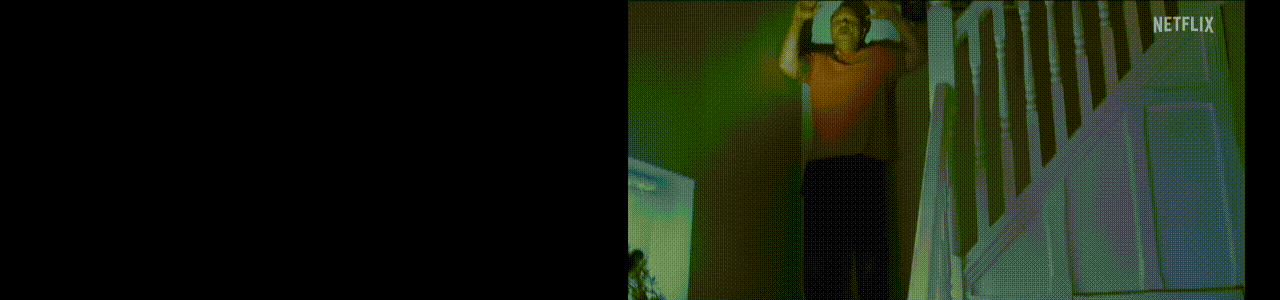
Tracking shot — один из самых вовлекающих приёмов в арсенале режиссёра. Зритель не просто наблюдает за героем со стороны, а буквально следует за ним — шаг за шагом, поворот за поворотом. Такое «физическое» сопровождение усиливает эмпатию, погружает в пространство сцены и создаёт ощущение непосредственного участия в происходящем.
Именно поэтому следящий кадр так часто используется в напряжённых, динамичных или эмоционально насыщенных сценах: он стирает границу между экраном и зрителем, превращая наблюдение в переживание. Но tracking shot далеко не всегда направлен на создание ощущения преследования. Сравним сцены из двух разных фильмов, использующие этот прием.
Фильмы «Отель „Гранд Будапешт“» (2014) Уэса Андерсона и «Сияние» (1980) Стэнли Кубрика идеально подходят для сопоставления. Их объединяют не только общая тематика отелей и скрупулёзное использование симметрии как основного композиционного принципа, но и характерное применение сквозного движения камеры (tracking shot). Однако настроение этих сцен — и, соответственно, мотивация использования приёма — кардинально различаются.
У Андерсона зритель, как и сам Зеро, впервые переступающий порог отеля, внезапно попадает в особый, замкнутый мир, живущий по своим собственным законам. Камера следует за персонажами, проводя их сквозь оживлённые залы «Гранд Будапешта». Зеро едва поспевает за опытным управляющим, месье Густавом, который, в свою очередь, прибавляет шаг, чтобы не отстать от камеры. Всё происходит на ходу: отель уже работает, не останавливаясь ни на секунду. Подписать документы, обменяться парой фраз с постояльцами, провести собеседование — месье Густав не задерживается ни на мгновение. Именно эту динамику и передаёт движение камеры: оно подчёркивает безостановочный, почти механический ритм жизни отеля.
Трекинг-шот в сцене, где Дэнни Торранс катается на велосипеде по коридорам отеля «Оверлук» в фильме Стэнли Кубрика «Сияние» (1980), выполняет несколько важных художественных и психологических функций.
Во-первых, этот приём создаёт ощущение преследования и нарастающего напряжения. Камера следует за мальчиком на небольшом расстоянии сзади — почти как невидимый наблюдатель или неотвратимая угроза. Такая постановка вызывает у зрителя чувство тревоги: мы не видим того, что находится перед Дэнни, но ощущаем, что за ним кто-то (или что-то) может следовать. Это усиливает атмосферу паранойи и изоляции, характерную для всего фильма.
Во-вторых, движение камеры подчёркивает масштаб и лабиринтность пространства отеля. Бесконечные коридоры, одинаковые двери и повторяющиеся узоры создают ощущение запутанности и безысходности. Трекинг-шот делает зрителя соучастником перемещения по этому лабиринту, погружая его в гнетущую геометрию «Оверлука».
В-третьих, контраст между детской беззаботностью (катание на велосипеде) и жутковатой, почти зловещей интонацией съёмки создаёт диссонанс — типичный для Кубрика. То, что должно выглядеть игриво, воспринимается как тревожное и неуместное, что усиливает ощущение надвигающейся катастрофы.
Наконец, этот приём визуально предвосхищает знаменитую сцену с близнецами: Дэнни не просто гуляет — он приближается к месту, где столкнётся с сверхъестественным. Трекинг-шот становится своего рода проводником к ужасу, мягко, но неотвратимо ведя зрителя к точке, где реальность начнёт рушиться.
Таким образом, в «Сиянии» трекинг-шот — не просто технический приём, а ключевой элемент нарратива, который формирует напряжение, пространственное восприятие и психологическое состояние зрителя. Но важно понимать, что киноприем не существует в вакууме. На восприятие отрывков влиет совокупность множества факторов. Например, цветовая палитра.


«Оверлук» — болезненный и зеленоватый. Свет у Кубрика в сцене исключительно холодный и придает ощущения дискомфорта даже теплому интерьеру.


«Гранд Будапешт» — кукольный, розовый, насыщенный и теплый.
Важен и угол съемки. В «Сиянии» камера следует прямо за ребёнком. Зритель не просто видит мир его глазами — он преследует его. Камера превращается в молчаливого преследователя, а зрители становятся частью угрозы. В «Отеле „Гранд Будапешт“» движение работает совершенно иначе. Камера движется рядом с персонажами, синхронизируясь с их быстрым темпом. Они разговаривают — внимание естественно переключается с одного говорящего на другого. Здесь зритель — не угроза, а равноправный участник момента, партнёр в диалоге.
Совокупность всех этих факторов задает интонацию, и в случае «Сияния» — создает ту самую оптику преследования. В подтверждение того, что tracking shot ≠ преследование по умолчанию, проведем эксперимент. Намеренное нарушение правил, созданных Кубриком для «Сияния», поможет изменить настроение сцены.
Оригинальные кадры из «Сияния» Кубрика








«Сияние»
Изменив темпоритмику сцены, нарушив идеальную симметрию, сделав корридор более оживленным, изменив цветовую палитру и эмоции актеров, можно кардинально повлиять на восприятие сцены. Визуализация, созданная с помощью ИИ, многократно уступает в качестве оригиналу, но наглядно демонстрирует, что важнее для зрителя — совокупность факторов, результат множества режиссерских и операторских решений. Но рассмотрим другой, во многом уникальный шот из «Сияния»:
Этот шот работает именно в такой формуле — мальчик движется по коридору, камера следует за ним на расстоянии, но останавливается, когда останавливается он. Затем мальчик оборачивается и смотрит в объектив, — потому что здесь создаётся иллюзия незаметного наблюдения, которая внезапно разрушается. Камера ведёт себя как преследователь: её движение синхронизировано с героем, но лишено личности — до тех пор, пока он не поворачивается. В этот момент зритель осознаёт: камера — не просто технический инструмент, а активный наблюдатель, возможно, даже угроза. Это вызывает чувство дискомфорта: нас застали за слежкой.
Даже если поменять локацию, освещение, одежду мальчика или стиль съёмки — эффект слежки сохраняется, потому что он строится не на визуальных деталях, а на динамике взаимодействия между объектом и камерой. Главное — это ритм: движение → мгновенная остановка → прямой взгляд. Именно эта последовательность включает механизм нарушения границы между миром фильма и зрителем. И когда мальчик смотрит в камеру, он ломает четвёртую стену не ради эффекта — он обвиняет. Он знает, что за ним следили. И теперь зритель — не пассивный наблюдатель, а соучастник. Именно поэтому эта формула так сильна: она превращает акт просмотра в акт вторжения.
Слом 4-й стены с точки зрения вуайеризма
Слом четвёртой стены — это классический приём, когда невидимая граница между зрителем и персонажами разрушается. Изначально зритель — невидимый наблюдатель, находящийся за непроницаемой стеной. Для персонажей зрителя не существует. Но когда персонаж обращается к аудитории, смотрит в камеру или произносит прямую речь «в зал» — эта граница исчезает. Зритель материализуется в мире персонажей, оказывается пойманным за подглядыванием.
Как камера ломает четвёртую стену в сериале «Fleabag»?
1. Камера часто фиксирует взгляд главной героини прямо в объектив, прерывая традиционный кинематографический приём, где персонажи не замечают камеру. Это и комический ход, и способ показать внутренние мысли, эмоции и саркастические комментарии персонажа. 2. Интимность создаётся за счёт близких планов лица и глаз, благодаря чему зритель ощущает себя единственным настоящим собеседником героини. 3. Камера иногда аккуратно следует за героиней, создавая ощущение её пространства и эмоционального состояния, когда она обращается к зрителю.
Таким образом, режиссёрская работа камеры в сериале является ключевой для создания эффекта слома четвёртой стены, с помощью которого герой выходит за пределы сюжета и напрямую взаимодействует со зрителем, что усиливает эмоциональное восприятие и юмор сериала.
В сериале «Дрянь» с самого начала устанавливаются чёткие правила для приёма слома четвёртой стены: только главная героиня может взаимодействовать со зрителем. Она обращается к камере, делится своими внутренними мыслями, саркастическими комментариями и эмоциями, которые никто из других персонажей не замечает. Этот приём создаёт уникальную близость между героиней и аудиторией, превращая зрителя в её «тайного собеседника», единственного, кто может понять её сложный внутренний мир и чувства.
Однако в финале сериала это негласное правило нарушается — другой персонаж, Священник, в которого влюблена героиня, тоже начинает ломать четвёртую стену. Более того, он не только может смотреть и взаимодействовать с камерой, но и слышит всё, что героиня произносит в своих «монологах», обращенных к зрителю. Это ломает привычный формат и границы восприятия, поскольку теперь тайны и мысли героини становятся доступны другому персонажу, что добавляет драматизма, усложняет отношения и усиливает эмоциональное напряжение.
Такое нарушение правила слома четвёртой стены в сериале превращает этот приём из чисто стилистического элемента в ключевой сюжетный ход, расширяющий возможности нарратива и углубляющий психологическую драму персонажей. Это подчёркивает сложность и неоднозначность отношений между главной героиней и священником, а также усиливает вовлечённость зрителя в происходящее на экране.
Дополню гифками и одним классным видосом с нарезкой.
Когда персонажи начинают осознавать зрителя, наблюдение превращается в более интимный и личный акт. Такой приём нарушает правила кинематографа, переопределяя отношения между наблюдателем и наблюдаемым. Грань между публичным и приватным стирается, превращая зрителя в соучастника. Слом четвёртой стены — мета-приём, заставляющий задуматься: кто здесь наблюдает, а кто — под наблюдением?
Фильм, который был снят дважды и в котором убийца ломает четвёртую стену, — это «Забавные игры» (Funny Games) режиссёра Михаэля Ханеке. Ханеке снял оригинал в 1997 году на немецком языке, а затем полностью повторил фильм десятью годами позже, чтобы достичь широкой аудитории, уже на английском языке. В фильме используется приём ломки четвёртой стены убийцами, которые напрямую обращаются к зрителю, играют с ним, перематывают сцены и задают вопросы, вовлекая аудиторию в психологическую игру и манипулируя её восприятием насилия. Эта нестандартная режиссёрская техника создаёт чувство дискомфорта и напряжённости, заставляя зрителя осознавать собственное участие в наблюдении за жестокостью. Фильм отличается своей жестокостью и манипулятивной силой, что делает этот приём особенно мощным и запоминающимся в истории кино.
Вероятно самый популярный прием в кинематографе — Over-the-shoulder (OTS) шот. Его классическое использование — диалоги персонажей. Чаще всего в таких случаях постановка камеры — функция, а не художественный прием. Акцент делается на актерскую игру, а основной принцип монтажа — склейка на начало новой реплики. Прием считается вовлекающим зрителей, но сам по себе он не обладает эмоциональной окраской и поэтому и является универсальным.
Из-за формальности и строгости этого приема нельзя не упомянуть правило 180 градусов. Суть правила в том, что проводится воображаемая ось, проходящая насквозь два объекта съемки. Все камеры должны находиться и перемещаться только с одной ее стороны. Так зритель не потеряет ориентацию в пространстве, а каждый объект будет оставаться со своей стороны кадра.
Правило 180 градусов или «восьмерка»
Как с помощью over-the-shouder создать ощущение преследования?
— Во-первых, можно отвернуть обоих персонажей от камеры
Тут будет красивый коллаж с кадрами и текстовое описание.
— Во-вторых, можно оставить только одного персонажа в кадре
Тут будет красивый коллаж с кадрами и текстовое описание.
— В третьих, можно заставить персонажа заметить камеру Как завершающий штрих — over-the-shouder комбинируем с tracking.
Тут много текста про то, что POV — самый креативный из всех возможных приемов. Тут и «Враг Нации», и «Шоу Трумана», и даже трейлер Whatch Dogs от Альберто Миелго, а главное «Во все тяжкие» со своим ПОВом объектов, когда герои делают что-то тайное.
Заглушка про композицию?
Тут про «Мистера Робота».

