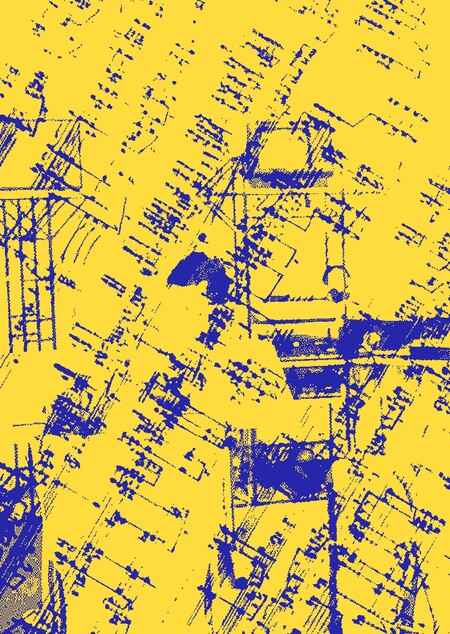
Инсталляции и пространство
сразу после второй мировой на сцену выходят прорывные технологии в области трансляции и фиксации звукового сигнала, впервые и навсегда разрывая традиционную схему «композитор — исполнитель — слушатель» целой плеядой новых методов и подходов в работе со звуком
конкретная музыка как подход к созданию произведений сформировался к 1948-му году силами Пьером Шеффером и его коллегами в рамках работы в экспериментальной студии французского радио
Studio d’Essay появляется при Французском радио «Radiodiffusion Francaise» (позже — Radio Television Franchise (RTF)) силами Шеффера к 1942-му году — именно здесь в 1948-м году проходит исторический процесс записи трех материальных этюдов: «Этюд с турникетом» для ксилофона, колоколов, колокольчиков и двух детских игрушечных машин, «Этюд с кастрюлями», «Этюд с железными дорогами», где, цитируя материал за авторством Андрея Смирнова [1],
«использовались звуки идущего локомотива, перестука колес, воя сирен, толчков вагонов и т. п., записанные на парижских вокзалах, обрабатывавшиеся в ритмическом контрапункте с обильным использованием accelerando и crescendo, solo локомотивов и tutti вагонов»
продолжая цитату со слов современников в пересказе Андрея Смирнова [1],
«Конкретную музыку стали расценивать как иллюстрацию, как копию шума окружающего нас мира без собственно музыкальных правил. Однако Шеффер вовсе не хотел этого. Чтобы усилить музыкально-звуковую сторону конкретной музыки, он обратил особое внимание на использование музыкальных инструментов. <…> Франсуа Бэйль, оглядываясь назад, отмечает: „Конкретная музыка вовсе не была музыкой шумов. Все было в точности наоборот. В этой музыке использовались все доступные нам ресурсы, музыка в которой использовались все звуки нашей жизни. Звуки конкретной музыки подобно фотографиям и фильмам несут в себе смысл и значение. Они показывают жизнь в соответствии с нашим опытом проживания в повседневном мире“.»
помимо очевидного прорыва в теоретизации и восприятии записанных не-конвенционально-музыкальных звуков, что в частности несомненно отразилось на самой философии дальнейших звуковых перформансов конкретная музыка, будучи
«„конкретным» использовании «фиксированных» звуков вместо нотации» [1]
— то бишь в сути своей техникой создания звуковых монтажей из предзаписанных звуков (может показаться чем-то банальным), развивалась в период, когда технические решения для звукомонтажа были чем-то новаторским и прорывным — изначально шеллаковые диски, а позже и магнитная лента того времени были несовершенными и хрупкими носителями информации, что требовало от Шеффера и коллег буквально нащупывать пути к созданию новых произведений и на ходу изучать возможности авангардных аппаратных решений того временивозможность резать и склеивать пленку, проигрывать ее задом наперед и понижать скорость ее движения по лентопротяжному тракту и объединять все это в одной многослойной композиции стала золотым граалем для экспериментальной студии французского радио — возможности были опьяняюще широки, ограниченные только принципиальными недостатками используемых носителей
«Важным требованием конкретной музыки является то, что материалом композиции служит записанный звук, отделенный тем самым от своего источника и естественного контекста. Фиксированные звуки — название, предложенное взамен выражению „записанные звуки“, подчеркивавшему существование „звучащей реальности“ еще до записи. [1]
«15 мая 1948 года Пьер Шеффер, представляя новое направление, говорил: „Способ композиции с помощью материала, взятого из коллекции экспериментальных звуков, я называю Musique Concrete, чтобы подчеркнуть, что отныне мы более не зависим от предвзятых звуковых абстракций, но используем фрагменты звуков, существующих в своей конкретности, рассматриваемых нами, как звуковые объекты“.» [1]
«Результатом композиции является, как правило, фонограмма. Исполнение конкретной музыки, соответственно, сводится к публичному проигрыванию этой фонограммы.» [1]
таким образом с приходом магнитной пленки и уникального подхода Шеффера, отделившего звук от его источника и позволившего сосредоточиться на его эмоциональном окрасе и особенностях его восприятия и художественной выразительности, звуковой перформанс как частный звуковой медиум, вырос не только в качестве документаций по сравнению с записью на шеллаковых дисках, но и позволили запечатлеть и воплотить на магнитном слое то, что было фундаментально и концептуально невозможно при использовании винилового резака или фонографа и до появления конкретного подхода, значительно развязывая руки авторам будущих звуковых перформансов
одну из первых масштабных и коллаборативных работ, «Симфонию для одного человека» Пьера Генри и Пьера Шеффера последний описывал как оперу для слепых, спектакль без сюжета, поэму из шумов, вспышек текста — произнесённого или музыкального
стоит зацепиться за слова про «оперу для слепых» — здесь отрыв от привычного треугольника «композитор — исполнитель — слушатель» принимает еще более интересный оборот, выходя из пышного зала и позволяя полноценно окунуться в непривязанное к оперному визуальному нарративу звуковое полотно даже незрячим людям — здесь не важно платье Аиды и пачки Лебедей, а сложносочиненная система тернтейблов и микшеров погружает слушателя в нечто совершенно оторванное от привычных декораций и традиций слушания
Достойны упоминания и труды Дафни Орам на Радио БиБиСи:
«Начав карьеру на BBC в начале 1940-х в качестве звукоинженера, в военные годы она оказалась востребована на радио. Однако ее интересы простирались куда дальше простой „балансировки“ уровней на классических концертах. <…> По вечерам, после окончания рабочего дня, она в одиночку экспериментировала с оборудованием BBC. По воспоминаниям, она собирала в одной комнате списанные магнитофоны, соединяла их в цепочку, проводила опыты, а под утро возвращала аппаратуру на место. Так рождалась библиотека уникальных звуков и неортодоксальных композиций, в которых сочетались оркестровые элементы, живые электроника и манипуляции с записью» [4]
«Одной из самых примечательных ее ранних работ стала композиция „Still Point“, написанная в 1949 году. Это 30-минутное произведение для „двойного оркестра“, фрагментов заранее записанных инструментальных звуков (на трех дисках со скоростью 78 об/мин) и live-обработки, использующей стандартное радиооборудование того времени. Сегодня „Still Point“ по праву считается одной из самых первых партитур, объединивших акустический оркестр и живую электронную манипуляцию» [4]
Несмотря на долгое отсутствие интереса со стороны BBC, успех первого полностью электронного саундтрека Орам к постановке «Амфитрион-38» (1957) привел к созданию легендарной Радиофонической мастерской, которую она возглавила вместе с Десмондом Брискоу
Однако тогда их взгляды на предназначение студии разошлись: BBC хотело получать простые звуковые эффекты, а Орам стремилась к экспериментам. Уже через год она ушла, основала собственную студию «Oramics» и разработала там уникальный одноименный метод синтеза звука с помощью ручной отрисовки на 35-мм пленке — крайне неортодоксальный и прорывной для своего времени подход, который еще найдет свое применение в будущем (например — отдаленно похожий по принципу Bitmap Player, созданный для получения сонограмм в формате картинок (bmp) и преобразования картинок в звук)
безусловно, важнейшей работой периода для всего современного искусства в целом и звукового перформанса в частности следует считать произведения Джона Кейджа «4’33», где сутью произведение стало «отсутствие преднамеренных звуковых событий», или, вернее, тишина, всегда по-разному повисающая в зале, где его играют
читаем у Кана [6]: изначально носившее название «безмолвный исполнитель», впервые представленное в августе 1952-го, произведение воздерживалось от конкретного состава исполнителей, позволяя использовать «любые инструменты и комбинации инструментов» для создания тишины на протяжении 33 секунд первого акта, 2 минут 40 секунд второго и 1 минуты 20 секунд третьего — исполнителям согласно партитуре было дано письменное указание «Tacet» («молчать») для всех трех частей
провокативность произведения и лаконичность партитуры делала возможным вольные артистические высказывания в ходе исполнения — так, на премьере Дэвид Тюдор лишь открывал клап своего пианино на время игры, и молча сидел наизготове, закрывал и вновь открывал его между актами, что отлично играло на создававшуюся в зале атмосферу смятения и недопонимания — тишина не появлялась от наличия в партитуре команды на латыни — ее вообще строго говоря не существует, и в этом состояла мощь концептуального прорыва Кейджевского «4'33»
Также достойна внимания в полною силу примененная Кейджем алеаторика: пересказывая описание произведения с официального сайта Кейджа [14], название его произведение «Music of Changes» («Музыка перемен») отсылает к китайской «Книге перемен» («И Цзин»), которую Кейдж активно использовал в процессе сочинения. С её помощью он применял метод случайных операций, создавая схемы для темпа, динамики, длительностей звуков и пауз.
Несмотря на то, что огромная роль в сочинении была отдана воле случая, результат был точно зафиксирован в детализированных нотах с традиционным нотным станом. Для Кейджа этот подход стал способом отказаться от личных вкусовых предпочтений и художественных традиций, чему способствовало его увлечение индийской философией и дзен-буддизмом. Важно, что случайность здесь относилась только к процессу сочинения, тогда как сама композиция и её исполнение оставались строго определёнными — от чего он отказался в своих последующих работах
Собственно, алеаторика, предтеча кнопки «Рандомизировать» в современных цифровых рабочих станциях требовала для работы не пары кликов пользователя, а реальных игровых костей, иногда — прозрачных листов с напечатанными линиями и точками, или даже колода таро — в общем, отдать часть композиторской работы на откуп случайности было не так просто, и Кейдж в своих работах смог выработать отличную школу практического применения случайности, предвосхищая повсеместное внедрение «удобного» рандома в появившихся позже цифровых инструментах
возвращаясь к «по-разному повисающей тишине», здесь большую роль играет акустика зала и особенности формата исполнения
об этом едва ли задумывался Руссоло, вещая звуковые поэмы в стенах «Кабаре Вольтер», но 4’33, всегда предстающая и звучащая по-разному, и содержащая в основном звуки зрителей в зале и гула машин за стенами концертного зала, может критически меняться при исполнении на кухне в компании друзей или в записи в условных наушниках с активным шумоподавлением — вариативность почти бесконечна, и произведение полностью зависит от среды исполнения, что также применимо по отношению к описанной ранее конкретной музыке
(«Часто „музыку для пленки“ исполняет сам автор. Роль исполнителя заключается в управлении пространственным распределением и движением звукового материала композиции (Sound Diffusion). В ситуации концерта, пространственное распределение звука целиком зависит от акустики конкретного зала и специфики звукоусиления, факторов, которые трудно учесть в процессе студийной работы») [1]
— к чему мы еще вернемся в следующей главеВ начале 50-х свежий ветер подул из области синтеза доселе неслыханных звуков и текстур: «Создатели Elektronische Musik „не хотели иметь ничего общего с электронной музыкой, ограничивающейся только теми музыкальным инструментами, на которых играют привычным способом, и которые средствами электроники имитируют традиционный звуковой мир“» [7]
«Перед истинно электронной музыкой стоят совсем другие задачи, нежели подмена звучания оркестровых инструментов и имитация традиционных звуков. Для систематической работы в этом направлении в 1951-52 гг. была создана исследовательская лаборатория — Кёльнская студия электронной музыки (Kolner Funkhaus Studio fur elektronische Musik) при радиостанции WDR (Германия)» [7]
На технической базе Кёльнской студии электронной музыки работали такие глыбы как Пьер Булез, Анри Пуссер, Янис Ксенакис, Томас Кесслер и многие другие — говоря о «сериальных» предпосылках к созданию систем точного программирования электронной музыки на ЭВМ,
«по утверждению первого директора Кёльнской студии Электронной музыки Герберта Аймерта, — „Совершенно очевидно, что если бы не революционные идеи Антона Веберна, никакие средства музыкального управления электронным материалом не могли быть созданы… В работах Веберна, впервые, мы видим начало трехмерной техники рядов, которую мы знаем как сериальную технику… все до единого элементы каждой ноты, подвергнуты серийной пермутации…, такая электронная музыка — не является „другой“ музыкой, это — сериальная музыка …» [7]
Одним словом, зарождавшаяся на экспериментальном отделе WDR электронная музыка была очень конкретной вещью, отвергавшей привычные тембры и использование электричества для мимикрии под конвенциональные инструменты:
«разговоры о „гуманизации“ электронного звука можно оставить лишенным воображения изготовителям музыкальных инструментов» [7]
Продолжая цитировать Смирнова,
«В дальнейшем, эти принципы Elektronische Musik соблюдаются все меньше. Постепенно, к середине 60-х годов, происходит полное стирание границ между конкретной и электронной музыкой, которые, объединившись с направлением компьютерной музыки, образуют конгломерат под названием „электроакустическая музыка“» [7]
В итоге само понятие электронной музыки стало крайне широким, в процессе подарив нам прообразы современных MIDI-протоколов и вдохновив будущих авторов на поиск и осмысление звуков и тембров, не имеющих аналогов вне электронного синтеза:
«в настоящее время, термин „электронная музыка“ указывает на технологию и, вообще говоря, не устанавливает никаких эстетических, стилистических или жанровых рамок и ограничений. Электронная музыка включает в себя всю музыку, создаваемую чисто электронными средствами, будь то компьютер, синтезатор или любое другое специальное электронное оборудование. Мы пользуемся этим термином так же, как термином „оркестровая музыка“» [7]
в то же время история зарождения FM-синтеза была прозаична: «В 1962 г. (Джон — прим. автора) Чоунинг возвращается в Стэнфорд, надеясь всерьез заняться композицией электронной музыки, и обнаруживает полное отсутствие таковой» [8]
Джону Чоунинг — молодой композитор, экс-ударник и скрипач, студент Парижской консерватории и сотрудник Стэнфордского университета, которому в 1963 году попадается на глаза статья Макса Мэтьюса в журнале «Science», и вдохновляет его на изучение компьютерных технологий в области музыки. Уже летом 1964 года, посетив Лаборатории Белл, Чоунинг уезжает оттуда с бесценной коробкой перфокарт, содержавших последнюю версию программы Music-IV
Сначала, в 1964 году, при поддержке Дэвида Пула, эту программу удалось установить на компьютере в стэнфордской Лаборатории искусственного интеллекта, а спустя десятилетие, в 1975 году, усилиями Чоунинга и его коллег — Леланда Смита, Энди Мурера, Лорена Раша и Джона Грея, при поддержке музыкального факультета был основан центр CCRMA
Стоит упомянуть и про Брехта — человека, создавшего одни из самых изящных и лаконичных партитур для звуковых (и не только) перформансов
Первоначально Джордж Брехт создавал театральные партитуры, напоминавшие ранние хэппенинги, но постепенно разочаровался в их излишней дидактичности. Поворотным моментом стало ироничное замечание Джона Кейджа о том, что он никогда не чувствовал себя настолько контролируемым, как во время одного из исполнений брехтовских пьес. Это побудило Брехта радикально изменить подход: он стал создавать предельно лаконичные партитуры, схожие с хайку, которые допускали кардинально разные интерпретации при каждом исполнении.
Впоследствии Брехт называл Кейджа своим «освободителем», хотя, по мнению критиков, он пошел дальше идеи Кейджа о музыке. Если Кейдж продолжал создавать партитуры для исполнения, то Брехт пришел к концепции мира, изначально пронизанного музыкой. Он утверждал, что человек всегда окружен звуками, независимо от своих действий, тем самым стирая грань между искусством и повседневностью.
Таким образом Брехт в своих работах, таких как Dripping Music, создал новую систему сверхусловной и интерпретативной скриптовки событий перформанса, отточил форму до изящного лаконизма и предложил современникам самим додумать произведение, внеся в него частицу себя
Поговорим еще немного о технологиях: «В конце 1960-х Чоунинг занимается исследованиями пространственного восприятия звука, разрабатывает компьютерные алгоритмы синтеза звука, перемещающегося в пространстве, с учетом эффекта Доплера и прочих психоакустических феноменов. Одновременно Чоунинг отлаживает новый алгоритм, значение которого осознает далеко не сразу — FM синтез» [8]
таким образом CCRMA в одно время становится кузницей и прообразов современных Dear VR и Sound Particles, и отчизной всего частотно-модуляционного синтеза — технологий архи-важных и архи-влиятельных для всей звуковой сцены и весьма ярко отразившейся на звуковом перформансе созданием новых, уже преимущественно цифровых творческих и технических инструментов, упрощая работу авторов и композиторов и открывая ранее невиданные возможности
Так, цитируя Андрея Смирнова,
«FM — это техника частотной модуляции, позаимствованная Чоунингом из области радиоприема. Будучи реализованной на компьютере, она позволяет невероятно простыми и дешевыми средствами синтезировать чрезвычайно сложные динамические спектры, легко поддающиеся контролю. Результатом этой работы явились компьютерные композиции Чоунинга „Sabelithe“, „Turenas“, „Stria“ и „Phone“» [8]
Так, пьеса «Sabelithe» осталась в истории как первая, в которой были использованы на практике FM-синтез и техника своего рода «спектральных мутаций», позволяющая плавно превращать один звук в другой — например, малый барабан спектрально перетекал в звучание трубы. Её создание заняло несколько лет: начав работу в 1966-м в Стэнфорде, автор из-за технических препятствий отказался от идеи с живыми исполнителями и пленкой и завершил её в 1971 году как чисто электронное произведение — пионерский подход с прорывным результатом
«В пьесе „Turenas“ (1972) — впервые использована расширенная техника FM-синтеза, наряду с моделированием перемещения звука в пространстве вокруг слушателя. Название пьесы — анаграмма слова Nature (природа). Чоунинг ищет ответ на вопрос, как связать приобретенный опыт с природой звука и собственно задачами композиции.» [8]
Наконец, плоды трудов Джона Чоунига в CCRMA приносят ему заслуженные лавры и место в зале славы звуковых новаторов:
«Чоунинг патентует свое изобретение, а в 1974 г. фирма Yamaha покупает лицензию на новую технологию, выпускает легендарный синтезатор DX-7, техника FM-синтеза становится на целое десятилетие всеобщим стандартом цифрового синтеза, имя Джона Чоунинга, пионера компьютерной музыки и создателя FM-синтеза, входит в историю, а композиции „Sabelithe“, „Turenas“, „Stria“ и „Phone“ становятся классикой компьютерной музыки. Профессор Чоунинг преподает в Стэнфорде, читает курс композиции и психоакустики в CCRMA, оставаясь ее директором до 1995 г.» [8]
«От пионеров компьютерной музыки требовалось блестящее знание техники и программирования, вследствие малого быстродействия и прочих недостатков ранних компьютеров для того, чтобы услышать очередной результат, часто — короткий звук, могло потребоваться несколько дней. <…> За каждой минутой этой музыки скрывается поистине титанический труд и терпение» [9]
В отношении прорывных идей и практик работы с звуковыми носителями стоит упомянуть и фундаментальный труд Анри Шопена 1979 года: «Poesie Sonore Internationale»
Следую рассказу Ларри Вендта,
«Эстетика poesie sonore Шопена включала в себя намеренное культивирование варварского подхода к производству, использование грубых или примитивных звуковых манипуляций для исследования области между искажением и разборчивостью. Он избегал высококачественных профессиональных звукозаписывающих аппаратов, предпочитая самое простое оборудование и методы бриколажа, такие как втыкание спичек в стирающие головки подержанного магнитофона или ручное вмешательство в тракт движения ленты» [10]
Таким образом, как бы то ни было парадоксально, новым открытием в технологической парадигме звукового перформанса стал террористический подход к работе с техникой и несовершенными носителями, чествование того, что обычно называют артефактами и браком по звуку задолго до эстетики ошибок конца 1990-х — начала 2000-х, о которых еще будет сказано в следующей главе
Наконец, если речь заходит о вокальных практиках, важно упомянуть Тревора Уишарта, многое сделавшего для саунд-арта, компьютерной музыки и композиций, использующих человеческий голос
В техническом плане Уишарт отметился большим вкладом в проект CDP (Composer’s Desctop Project), где работал над передовыми системами звукообработки, некоторые из которых по сегодняшний день доступны в виде авангардных vst-плагинов
Тем временем, какаясь не менее важной эпохальной работы его авторства,
«Композиционные интересы Уишарта в основном связаны с человеческим голосом, в частности с его трансформацией и интерполяцией с помощью технологических средств между человеческим голосом […] и естественными звуками и использованием расширенных вокальных техник. […] Это наиболее очевидно в его альбомах Red Bird/Anticredos (период создания: 1973–77, дата публикации: 1992) и VOX Cycle (1980–1988, 1990)» [11]
трудами американских технологических аттракторов, разнесенных по миру студий и гениев-самородков в руках у артистов, звукорежиссеров и звуковых художников на рубеже тысячелетий оказалось огромное количество невиданных технологий, не упрощающих ранее известные процессы, а порождающих совершенно новые области и поля для творчества и фантазии — параллельно и весь контекст звукового искусства расширился и позволил освоить доселе невиданные подходы и воплотить самые смелые идеи уже покойных авангардистов, не доживших до появления технических средств воплощения их мегаломанских проектов и проектов их идейных и духовных наследников
А дальше была цифровая революция, увеличение доступных вычислительных ресурсов в геометрических прогрессиях, появление встраиваемой и носимой электроники, прорывы в системах трансляции и записи звука — об этом речь и пойдет в следующей главе
КОНКРЕТНАЯ МУЗЫКА // Термен-центр [Сайт] Режим доступа: URL: https://asmir.info/lib/muconcr.htm (дата обращения: 13.11.2025).
The Aesthetics of Failure: «Post-Digital»: Tendencies in Contemporary Computer Music // Термен-центр [Сайт] Режим доступа: URL: https://asmir.info/lib/Aesthetics%20of%20Failure.htm (дата обращения: 13.11.2025).
Musique Concrete // Britannica [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: https://www.britannica.com/art/musique-concrete (дата обращения: 13.11.2025).
A Brief History of The Studio As An Instrument: Part 1 — Early Reflections // Ableton Community [Сайт] Режим доступа: URL: https://www.ableton.com/en/blog/studio-as-an-instrument-part-1/ (дата обращения: 13.11.2025).
Poème Electronique (1958/2016) — SSI // SSI [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: https://spatialsoundinstitute.com/Poeme-Electronique-1958-2016 (дата обращения: 06.11.2025).
Kahn D. Noise, Water, Meat: A History of Sound in the Arts. — Cambridge, Massachusetts: MIT Press, 2001.
ЭЛЕКТРОННАЯ МУЗЫКА (Elektronische Musik) // // Термен-центр [сайт] Режим доступа: URL: https://asmir.info/lib/emus.htm (дата обращения: 14.11.2025).
Джон Чоунинг. FM-синтез. // Термен-центр [сайт] Режим доступа: URL: https://asmir.info/lib/chouning.htm (дата обращения: 14.11.2025).
Компьютерная музыка // Термен-центр [сайт] Режим доступа: URL: https://asmir.info/lib/comp_usa.htm (дата обращения: 14.11.2025).
Wendt, Larry «Sound Poetry: I. History of Electro-Acoustic Approaches, II. Connections to Advanced Electronic Technologies». — Leonardo 18, n. 1:11–23 изд. — 1985. — 16-7 с.
Trevor Wishart // Allmusic [сайт] Режим доступа: URL: https://www.allmusic.com/artist/trevor-wishart-mn0001459690 (дата обращения: 14.11.2025).
Spinks T.J. Sound Art and Music: Philosophy, Composition, Performance. — New York: Bloomsbury Academic, 2020.
Battier M. What the GRM brought to music: from musique concrète to acousmatic music. — 12(3) изд. — Cambridge, Massachusetts: Cambridge University Press, 2007. — 189–202 с.
Music of Changes // John Cage [сайт] Режим доступа: URL: https://data-johncage.org//pp/John-Cage-Work-Detail.cfm?work_ID=134(дата обращения: 14.11.2025).
Трассированный рисунок из личного архива



