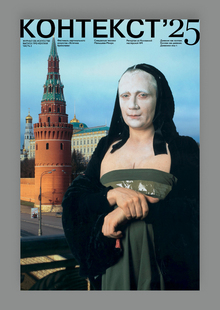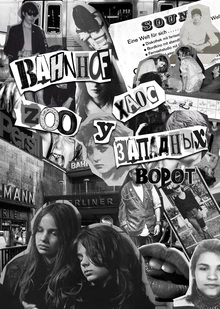Муралы — символ новой идентичности
В этой главе отдельное внимание хочется уделить международному фестивалю «Стенограффия», регулярно проходящему в Екатеринбурге. Он стал важным катализатором преобразования визуальной среды Уралмаша. Этот проект интересен именно как пример системного взаимодействия между уличными художниками, властью и местным сообществом.

Этот мурал «Относительность» — яркий пример того, как уличное искусство может не просто украшать, а преображать и переосмысливать пространство, особенно в контексте городского ландшафта, переживающего упадок. Художник не игнорирует разруху, а наоборот, использует ее как часть своего произведения, создавая сложный и многослойный визуальный рассказ.
Самое очевидное — это намеренный контраст между новым, ярким муралом и обветшалой, заброшенной архитектурой.
Этот диссонанс подчеркивает саму идею перерождения и трансформации, характерную для уличной культуры.
Художник ловко использует зияющие оконные проемы и руины как рамки и части композиции. Например, темный провал окна справа от центральной фигуры может намеренно контрастировать с красотой и жизнью, которые олицетворяет мурал. Этот прием создает глубину и позволяет зрителю взаимодействовать с муралом на разных уровнях.
Он хорошо вписан в заброшенный дом, но про него мало кто знает. Он находится не на видном месте, а среди обычных домов, где люди обычно не гуляют. Поэтому большинство жителей Уралмаша его не видят.
Мурал символизирует попытку переосмыслить прошлое, найти красоту в упадке и вдохнуть новую жизнь в умирающее пространство.
Эти муралы Андрея Шума «Мы видим — Сталелитейный» и «Мы видим — Два шага до Победы» — это пример того, как можно использовать уличное искусство для создания нарратива, связанного с историей и идентичностью места. В отличие от первого мурала на заброшке, эти работы явно связаны с темой памяти и исторического наследия.
Муралы подчёркивают роль Уралмаша как ключевого промышленного центра, внесшего огромный вклад в Победу.
Это важная часть идентичности района.
Хочется отметить, что муралы про Победу, в отличие от первого, знают почти все местные жители, и не только молодежь. Работы оценили по достоинству, ведь тема понятная и близкая.
В рамках несанкционированного уличного фестиваля «Карт-бланш» на стенах заброшенной школы Уралмаша появились муралы с изображением пионеров-скелетов. К сожалению эта работа, просуществовала всего сутки.
Образ пионера-скелета — метафора смерти идеологии, «скелетов в шкафу» истории. Заброшенная школа усиливает эффект забвения. Фестиваль «Карт-бланш» и быстрое уничтожение муралов показывают протестный характер работы, критику советского прошлого, как акт сопротивления официальной версии истории.
Граффити ставят под вопрос советскую идентичность Уралмаша, отражают конфликт между ностальгией и критикой.
Это пример маргинального искусства, выражающего альтернативные взгляды. Муралы показывают Уралмаш как место сосуществования разных версий истории.
На трансформаторной будке во дворе Уралмаша появились Черепашки-ниндзя, копирующие позу героев культового сериала «Бригада». Это работа из серии «Детство перед телевизором», где сталкиваются символы 90-х
Эта работа говорит о влиянии медиа на формирование идентичности. Смешение «Черепашек» и «Бригады» — это игра с культурными кодами, отражение эклектики постсоветского детства. «Бригада», с её романтизацией криминала, и «Черепашки», как символ дружбы и справедливости, — оба оставили след в сознании поколения.
Граффити поднимает вопрос о том, как массовая культура формирует ценности и идеалы.
При этом, мурал неявно перекликается с бандитской историей Уралмаша.
«Бригада» стала символом 90-х — времени криминального беспредела, а Уралмаш в те годы был известен как один из самых криминальных районов. Даже если художник не ставил задачу прямой связи, подсознательно у зрителя может возникнуть ассоциация.
Муралы на Уралмаше отражают сложную и противоречивую идентичность района, в которой переплетаются советское прошлое, криминальные 90-е и современная поп-культура. Они не просто украшение, а живое и динамичное отражение истории, культуры и идентичности района. Они создают визуальный диалог, вызывая дискуссии, провоцируя переосмысление прошлого и формируя коллективную память.