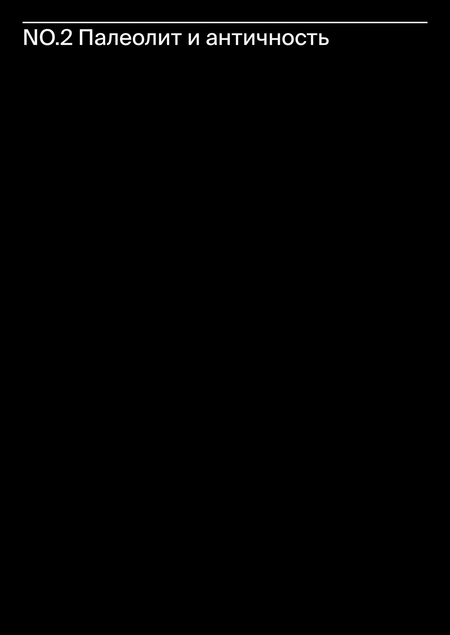
NO.2 Палеолит и античность: первые опыты фиксации движения
Множественные конечности: ошибка или намерение?
Передача движения в палеолитической живописи
В наскальной живописи палеолита некоторые изображения животных содержат избыточное количество конечностей — там, где должно быть показано быстрое движение: галоп, бег, прыжок. Это позволяет предположить: повтор конечностей — выразительный приём для передачи движения, которое глаз не успевает чётко зафиксировать.
Возвращаясь к фи-феномену: повторяющиеся конечности активируют механизм восприятия последовательности как движения. Мозг интерпретирует множественные ноги не как отдельные объекты, а как одно животное в последовательных фазах бега. Мы не можем утверждать, что палеолитические художники сознательно использовали этот эффект — возможно, они действовали интуитивно, передавая зрительное впечатление от размытия при быстром движении. Но факт остаётся: приём, использованный тридцать тысяч лет назад, будет заново открыт в XIX веке — в хронофотографии Мейбриджа и Марея.
В последующие эпохи этот принцип визуальной фазовости сохраняется, но постепенно усложняется. Если в палеолите движение фиксируется через повтор и наложение, то в античности художники начинают работать с направленностью тела, диагональными осями, напряжением и торсией, формируя более развитые способы передачи кинетики в статичном изображении.

Бизон с множественными ногами. Наскальная живопись. Пещера Шове-Пон-д’Арк, Франция. Ок. 32 000 до н. э.

Панель львов и носорогов. Наскальная живопись. Пещера Шове–Пон-д’Арк, Франция. Ок. 32 000 до н. э.
Панель лошадей. Наскальная живопись. Пещера Шове–Пон-д’Арк, Франция. Ок. 32 000 до н. э.
«Зал быков». Наскальная живопись. Пещера Ласко, Франция. Ок. 17 000–15 000 до н. э.
«Скрещённые бизоны». Наскальная живопись. Пещера Ласко, Франция. Ок. 17 000–15 000 до н. э.
Пять голов оленей. Наскальная живопись. Пещера Ласко, Франция. Ок. 17 000–15 000 до н. э.
«Китайская лошадь». Осевая галерея. Пещера Ласко, Франция. Ок. 17 000–15 000 до н. э.
«Перевёрнутая лошадь». Наскальная живопись. Пещера Ласко, Франция. Ок. 17 000–15 000 до н. э.
Костяной диск. Стоянка Ложери-Бас, Франция. Палеолит.
Анализ памятников палеолитической живописи — от Пещеры Шове до Ласко — показывает, что художники последовательно использовали три базовых принципа визуализации движения: повтор (наложение), фазовость и направленность. В Шове эти механизмы проявляются в виде многократных конечностей (бизон с восьмью ногами), наложенных поз хищников в «Панели львов» и последовательных голов лошадей, создающих иллюзию подъёма и опускания при смене угла освещения. Ласко демонстрирует дальнейшее развитие тех же стратегий: фриз из восьми лошадей предвосхищает хронофотографический анализ Марея, «скрещённые бизоны» используют окклюзию и прозрачность, а сцены с плавающими оленями строятся на принципе горизонтальной направленности композиции.
Дополнительные артефакты — костяные вращающиеся диски из Ложери-Бас и Мас д’Азиль — подтверждают, что палеолитическая культура не ограничивалась статикой. Эти архаические аналоги тауматропа демонстрируют экспериментирование с визуальной фазовостью и стремление моделировать движение через последовательность изображений. Таким образом, уже в палеолите формируются ключевые механизмы, которыми позднее будут пользоваться как античные художники, так и изобретатели хронофотографии XIX века: разложение движения на фазы, использование наложений и перцептивное достраивание кинетики из статичных форм.
Античная скульптура: фиксация переходного момента
Если в палеолите движение передавалось через множественность конечностей, то в античной скульптуре — через фиксацию неустойчивого момента, когда тело остановлено в точке, которой не может быть в реальности. Без повторяющихся фаз создаётся ощущение динамики, основанной на внутреннем импульсе движения.
Неустойчивость позы
Скульптуры фиксируют переходное состояние — мгновение, которое не может длиться. У зрителя возникает ощущение, что действие вот-вот продолжится.
Контрапост
Скрученная ось тела создаёт визуальное напряжение: плечи и таз развернуты в разные стороны, формируя эффект «пружины».
Визуализация невидимых сил
Развевающиеся драпировки и напряжённые мышцы делают видимыми такие силы, как ветер, инерция и сопротивление, задавая направление движения.
Эти наблюдения позволяют рассматривать античную пластику как ранний этап формирования устойчивых художественных приёмов передачи движения, которые затем получают обобщённую форму и системность в античном искусстве в целом.
Панафинейская призовая амфора с бегунами. Терракота, чернофигурная техника. Аттика, ок. 530 г. до н. э.
Панафинейская призовая амфора с поединком по панкратиону. Терракота, чернофигурная техника. Аттика, ок. 500 г. до н. э.
В античной вазописи движение передавалось через систему устойчивых графических приёмов. Художники использовали профильную позицию, диагональные оси тела, ритмически повторяющиеся фигуры и элементы, обозначающие невидимые силы — такие как развевающиеся волосы или ткани. Визуальная последовательность бегунов или борцов на вазах строится как ранняя форма фазовой записи движения: каждый силуэт фиксирует определённую фазу действия, а их чередование создаёт эффект ритма и направленности.
Мирон. «Дискобол». Римская копия греческого оригинала. Мрамор. Национальный музей Рима. Ок. 460–450 гг. до н. э.
Агасий из Эфеса. «Боргезский боец». Мрамор. Лувр, Париж. Ок. 100 г. до н. э.
Лисипп. «Апоксиомен». Мраморная копия бронзового оригинала. Ватиканские музеи. Ок. 330–320 гг. до н. э.
«Ника Самофракийская». Мрамор. Лувр, Париж. Ок. 200–190 гг. до н. э.
«Лаокоон и его сыновья». Мрамор. Ватиканские музеи. Ок. I в. до н. э. — I в. н. э.
Античная скульптура развила иной принцип отображения движения — «замороженной динамики». Композиции строятся на контрапосте, переносе веса и контрасте напряжённой и расслабленной сторон тела, что создаёт ощущение внутреннего импульса.
Другой ключевой прием — спиральная торсия, когда тело закручивается вокруг собственной оси, словно фиксируя момент максимального напряжения перед действием. Невидимые силы — ветер, инерция, сопротивление — выражаются через драпировку, которая работает как графический след движения.



