
Первые эксперименты

«Наполеон», 1927, реж. А. Ганс
Одним из первых случаев использования съемки от первого лица является киноэпопея «Наполеон» Абеля Ганса 1927 года. Картина сама по себе является невероятно экспериментальной, поскольку помимо кадров с субъективной камерой в также ней использовалась технология полиэкрана, колоризация пленки, ручная камера и многое другое.

«Наполеон», 1927, реж. А. Ганс


«Наполеон», 1927, реж. А. Ганс
Первым фильмом, полностью снятым с видом от первого лица же считается «Леди в озере» 1946 года. С одной стороны, выбор подобного плана для целого фильма было смелым решением, однако не самым удачным: хотя сперва ракурс и кажется необычным, со временем он приедается.
В действительности же одного только факта наличия субъективной камеры мало, чтобы заинтриговать зрителя; если подобный план слабо влияет на восприятие фильма, он становится в тягость.

«Леди в озере» 1946, реж. Р. Монтгомери
Наибольшей проблемой картины оказывается обилие диалогов. Главный герой — и по совместительству зритель — является частным детективом, что влечет за собой множество разговоров на протяжении всего фильма. Как раз благодаря выбранному режиссером типу съемки диалоги выглядят несколько неловкими; актеры, смотрящие прямо в камеру, иногда начинают напрягать. К тому же, как отмечали критики, голос главного героя разрушает иллюзию того, что детектив и зритель — «один человек», и смысл в выборе субъективной камеры как средства повествования пропадает.
«Леди в озере» 1946, реж. Р. Монтгомери
«Леди в озере» 1946, реж. Р. Монтгомери
Из интересных примеров использования съемки от первого лица в «Леди у озера» можно отметить реализацию элемента «подглядывания» за другими героями и наличие кадров, в которых участвуют непосредственно руки главного героя. Таким образом субъективная камера действительно помогает создать ощущение, будто зритель непосредственно участвует в расследовании.
«Леди в озере» 1946, реж. Р. Монтгомери
Также стоит отметить, что периодически можно заметить отражение главного героя в зеркалах; неудачно выбранный для этих кадров ракурс несколько нарушает гармонию субъективной камеры, поскольку сперва кажется, что человек в зеркале — не детектив, а некий третий, сторонний герой. Но все-таки реалистично снять отражение в зеркале от первого лица без присутствия в кадре камеры довольно сложно и в современном кинематографе, что уж говорить о первой половине двадцатого века.
«Леди в озере» 1946, реж. Р. Монтгомери
Еще одним интересным приемом, которым в последствии будут пользоваться другие киносоздатели, можно назвать расфокус камеры для создания эффекта «пробуждения» героя. В данном фильме размытие используется в сцене, где герой попадает в аварию, и некоторым образом отражает физическое состояние детектива.


«Леди в озере» 1946, реж. Р. Монтгомери
Как итог можно сказать, кинокартина «Леди в озере» хороша в качестве эксперимента, однако режиссер едва ли использует особенности повествования, которые предполагает наличие субъективной камеры. В фильме это не больше, чем просто ракурс, и как можно понять «одноплановость» картины не играет ей на руку.
«Черная полоса» 1947 года — еще один нуар, использующий субъективную камеру, но уже более удачно. Глазами героя показана только первая часть фильма, благодаря чему прием не надоедает; к тому же даже в этом эпизоде фрагменты с повествованием от первого лица чередуются с общими планами, чтобы дать зрителю понять окружающую обстановку.
«Черная полоса» 1947, реж. Д. Дэйвс
Необходимость в съемке от первого лица обусловлена тем, что главный герой скрывается от полиции и не может показывать своего лица. Он даже прибегает к пластической операции, дабы изменить внешность и тем самым отвести от себя подозрения.

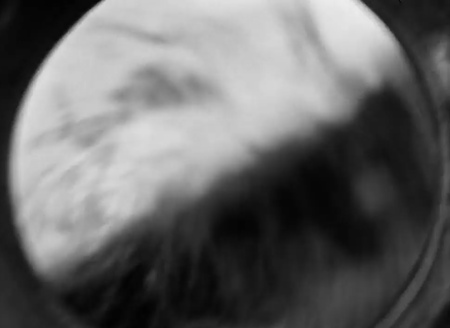
«Черная полоса» 1947, реж. Д. Дэйвс
Сцена с операцией заслуживает отдельного внимания: перед операцией врач накрывает камеру тканью, как бы погружая и зрителя, и героя в анестетический сон. Во время наркоза же зритель видит галлюцинации главного героя.
Эта сцена является последней, где используется субъективная камера; после операции зритель «отделяется» от героя, и на протяжении оставшейся части фильма наблюдает за ним со стороны.
«Черная полоса» 1947, реж. Д. Дэйвс
Как итог можно сказать, что само по себе использование субъективной камеры не гарантирует успеха. Вид от первого лица так или иначе требует смыслового обоснования: эффективность приема зависит от его органичного взаимодействия с нарративной структурой произведения. В то время, как в «Черной полосе» использование субъективной камеры связано с сюжетом, в «Леди в озере» выбранный ракурс не является необходимостью.



