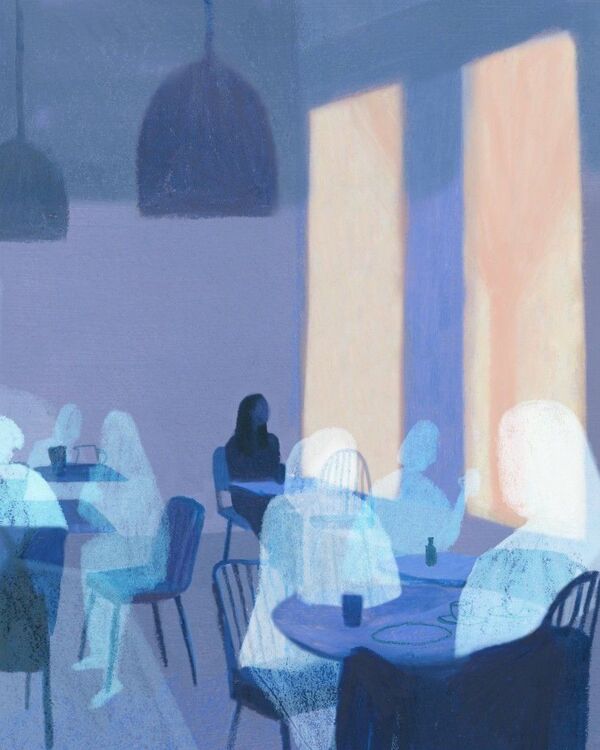
В работе исследуется выражение изоляции и одиночества в игровом кино СССР и России: чем обусловлено ив чем заключается это ощущение, и как фильм делает его видимым. Я обращаюсь к различным источникам и самостоятельно анализирую и сопоставляю композицию кадра, ритм, пространство, звук, цвет и драматургию сцен.
Под «изоляцией» в ходе исследования я подразумеваю частичный или полный разрыв связи:
1. социальный (с обществом, коллективом, институтами), 2. семейный и интимный (между близкими, в паре), 3. экзистенциальный (ощущение внутренней пустоты, когда внешне все «нормально»), 4. пространственный/телесный (герой отделён режимом пространства, войной).
ПРИНЦИП ОТБОРА ФИЛЬМОВ
В рамках исследования я рассматриваю картины, отражающие то, что происходило на момент их создания в реальности вокруг (без исторических реконструкций и фантастики). Такой подход позволяет сопоставлять живой опыт человека своей эпохи, выраженный через экран. То, как конкретное десятилетие формирует ощущение изоляции и способы его переживания. А также то, какие инструменты используются, чтобы об этом ощущении рассказать.
Для анализа я выделила по два фильма из каждого десятилетия, начиная с 1960-х и заканчивая 2010-ми годами. Эти картины, по моему наблюдению и по мнению ряда исследователей, являются одними из наиболее точно и порой остро отражающих атмосферу своего времени. Они фиксируют то, как человек конкретной эпохи ощущает себя внутри повседневной реальности, социального и культурного контекста.
Точкой отсчёта становится период «оттепели», когда в советском кино происходит существенное смещение фокуса: от героического и идеологического к повседневному и человеческому. Если в предшествующие десятилетия индивидуальность рассматривалась через призму общественной функции, то начиная с 1960-х камера впервые обращается к частному человеку в его повседневной среде. С его сомнениями, тревогами усталостью и попытками осознать себя в мире. Период оттепели привносит в кино новую чувствительность, которая делает возможным разговор об одиночестве не как об отклонении, а как о естественной части существования. Вместе со смещением фокуса постепенно начинает формироваться язык, позволяющий говорить о чувствах со зрителем, которому они, вероятно, могут быть близки.
КОНЦЕПЦИЯ
Я рассматриваю изоляцию как визуально-драматургическое явление, определяющее операторские решения, выбор расстояний, построение кадра, выстраивание ритма, характер света и цвета и звука.
Целью исследования является выявление, каким образом советский и российский кинематограф визуализирует и осмысляет изоляцию, и как меняется это выражение от 1960-х к 2010-м. Я анализирую чувственный образ одиночества в разные периоды, и то, как этот образ меняется вместе с культурой, языком и способом видеть человека. Мне бы хотелось сфокусироваться на изоляции, как на лейтмотиве, через который каждая эпоха визуально выражает свои внутренние противоречия.
Работа рассматривает изоляцию не только как сюжетную тему, а как форму кинематографического высказывания со своими визуальными и звуковыми принципами. Сопоставление изменений восприятия и изменений языка позволяет увидеть, что одиночество в советском и российском кино — это не только состояние героя, но и способ видеть изменяющийся мир.
В процессе работы я заметила, что фильмы разных десятилетий требуют разного подхода к анализу. В некоторых фильмах интересующая меня тема становится центральной, и все визуальные решения выстраиваются вокруг нее. В других фильмах её приходится искать более тщательно, так как визуальных решений меньше или они неочевидны. Эта разница связана не только со стилем времени, но и с разными подходами режиссеров к высказываниям. Наиболее концентрированно и ясно визуальные принципы, отражающие моё исследование, проявились в фильме «Мне 20 лет», поэтому именно его я рассматриваю как отправной и центральный пример, позволяющий выстроить почти исчерпывающий визуальный анализ.
В исследовании я меняю метод анализа, постепенно разбираясь с тем, из чего и как формируется визуальный язык, на котором кино говорит о чувстве изоляции.
Период «оттепели» стал временем, когда советский кинематограф впервые обратился к частной жизни, внутреннему миру «обычного человека» и повседневности. Я рассматриваю два фильма этого периода подробно, разбирая сцены в хронологическом порядке, чтобы собрать пазл из всех постепенно появляющихся инструментов и приемов.
Далее, анализируя следующие десятилетия, я плавно сосредотачиваюсь на изучении повторяющихся визуальных приёмов, рассматривая их в сопоставлении.
Я рассматриваю изоляцию не только как эмоциональное состояние персонажа, но и как структурный принцип, влияющий на весь визуальный организм фильма.
Мне интересно понять, как кинематограф разных десятилетий конструирует одиночество через пространство: архитектуру, интерьер, уличную среду, их трансформации и пустоты. От того, как камера фиксирует тело героя в среде (отдаляет, зажимает, оставляет в статике или в непрерывном движении), зависит то, каким образом зритель переживает его отчуждение.
При я стараюсь замечать, как визуальный язык изоляции складывается из множества элементов: декораций, эстетики кадровой композиции, характера пленки или цифровой камеры, ритма монтажа, шумов города, музыки, или их отсутствия. Изменяясь в разные периоды, эти элементы формируют уникальную оптику, через которую кино говорит о человеке и его месте в мире.
ГЛАВЫ
1. Введение 2. Принцип отбора фильмов 3. Концепция 4. 1960-е. От коллективного взгляда к частному • анализ фильмов: Мне двадцать лет (М. Хуциев, 1964), Июльский дождь (М. Хуциев, 1966).
5. 1970-е. Изоляция внутри «привычного» мира. • анализ фильмов: Начало (Г. Панфилов, 1970), Осенний марафон (Г. Данелия, 1979). 6. 1980-е. Изоляция в близости • анализ фильмов: Без свидетелей (Н. Михалков, 1983), Маленькая Вера (В. Пичул, 1988). 7. 1990-е. Ощущение изоляции, как следствие распада и потери опор • анализ фильмов: Небеса обетованные (Э. Рязанов, 1991), Брат (А. Балабанов, 1997). 8. 2000–е. Изоляция как внутреннее переживание и поиск согласия с внешним миром. • анализ фильмов Война (А. Балабанов, 2002), Русалка (А. Меликян, 2007). 9. 2010-е. Структурная изоляция: повседневность и тупик • анализ фильмов: Елена (А. Звягинцев, 2011), Аритмия (Б. Хлебников, 2017). 10. Заключение
«Мне двадцать лет» (1964) — реж. Марлен Хуциев
«Июльский дождь» (1966) — реж. Марлен Хуциев
«Начало» (1970) — реж. Глеб Панфилов
«Осенний марафон» (1979) — реж. Георгий Данелия
«Без свидетелей» (1983) — реж. Никита Михалков
«Маленькая Вера» (1988) — реж. Василий Пичул
«Небеса обетованные» (1991) — реж. Эльдар Рязанов
«Брат» (1997) — реж. Алексей Балабанов
«Война» (2002) — реж. Алексей Балабанов
«Русалка» (2007) — реж. Анна Меликян
«Елена» (2011) — реж. Андрей Звягинцев
«Аритмия» (2017) — реж. Борис Хлебников



